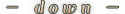Вот почему никогда не следовало возвращаться в прошлое. Она же это знала. Знала пятнадцатого марта пятидесятого года, ровно двадцать восемь лет назад, когда девочку — тогда еще просто плачущий сверток, а не Марию Долохову, — унесли из комнаты, когда ушел колдомедик, когда Анна Дмитриевна Долохова в последний раз осталась одна в супружеской спальне в парижском доме: уставшая, измученная, опустошенная, совершенно не готовая к путешествию, которое ее ожидало. Она знала, что вернуться в прошлое нельзя. Нельзя представить надолго, что чего-то в твоей жизни не было, потому что жизнь оседает на человеке постепенно, как стойкий запах. Въедается в переплетение нитей на одежде, остается на волосах, тонкой вуалью прикрывает кожу.
Можно закрыть глаза и захотеть, чтобы сейчас вошел Долохов. Чтобы он, еще не получив заранее написанного письма о рождении ребенка и похоронах, почувствовал сердцем, что должен быть со своими женой и дочерью. Осознал вдруг, идя поздно вечером из преподавательской в пустую дурмстранговскую спальню, что он был не прав, когда взял ее силой — потому что зачем брать силой то, что и так принадлежало только ему?
Можно закрыть глаза и представить, что дверь скрипнет, вот сейчас, вот-вот, и он войдет. Можно представить, что Антон сядет на край кровати, осторожно протянет к ней руку. Возьмет ее ладонь несмело, потому что будет ощущать вину за то, что он все пропустил. Можно даже представить, что она улыбнется ему в ответ и скажет то, что хотела сказать девять месяцев, — что она его любит, что он ей нужен. Вот прямо сейчас, когда из нее достали целого человека, он нужен ей особенно сильно.
Но даже тогда, двадцать восемь лет назад, все это было уже прошлым и оттого невозможным. Потому что Антонин Долохов уже взял ее силой. И уже отчеркнул свою жизнь до этого момента. Он сделал выбор за них обоих. И теперь настал ее черед. Только ей выпало делать выбор за троих.
Жалела ли Анна о нем? Никогда. Лучше мертвая мать, чем та, которая не любит своего ребенка. Лучше мертвая мать, чем та, что смотрит в глаза маленькому человеку, а видит — глаза взрослого, который не нашел иного способа утвердить свое право собственности. Лучше мертвая мать, чем такая, как она. Долгие годы Анне казалось, что это и есть ее крайнее проявление ответственности.
Хотя вот это как раз была ложь. Ей было все равно. И долгие годы она ничего не испытывала к ребенку, которого родила, поэтому если и понимала что-то про «лучше мертвая мать, чем такая», то исключительно головой. Разумом, а не сердцем, потому что сколько бы ни говорили о «материнском сердце», оно ничем не отличается от любого другого — обыкновенная мышца, точнее — полый фиброзно-мышечный орган.
В ответ на всю тираду Долохова — надо же, она и правда его допекла или просто попала в цель, — Анна молчит. Она просто возобновляет движение и идет в сторону паба, что недалеко от парка.
К маггловским пабам ее приучил Эндрю: он неловко чувствовал себя в мире волшебников, а Анне было, в общем-то, все равно. Ее высокомерное чистокровие осталось в парижских салонах — Теглевы в Бостоне вели совершенно другой образ жизни, и ценности исповедовали тоже совершенно другие. В маггловском пабе забавно наблюдать за Долоховым. И каждый раз настолько интересно, что на некоторое время — пока они ищут столик подальше, пока он разбирается с едой и выпивкой, — Анна забывает, что Эндрю научил ее еще кое-чему. Нести спокойную, непрерывную, постоянную взрослую ответственность.
Эндрю, сам того не зная, привел Анну к мысли, которую у нее едва ли выйдет донести до Долохова, потому что Долохов не умирал: у нее нет дочери, но она все равно родила ребенка. Двадцать восемь лет назад смерть была лучшим выходом. Равно как и не знать ничего о Марии Долоховой. Так было лучше для них обеих, потому что у Марии была мать, которая любила бы ее со всей нежностью, на какую только была бы способна; защищала бы ее от целого света; учила бы как быть русской дворянкой, эмигранткой, женщиной, женой, матерью, профессионалом — кем угодно. У Марии была идеальная мать. Лучшая из всех возможных. Мертвая.
И живой, кентавр тебя дери в зад, Антон, отец. Ты был живым. Она знала, что ты в Дурмстранге. Знала, что ты в Британии. Она знала, что ты есть, и всю жизнь жила с пониманием, что она тебе не нужна. Хотя она — это то, что ты сделал с нами. Это, видимо, момент, когда мы стали тебе не нужны. Когда «мы» стали не нужны нам обоим.
— Я думаю, я ее все-таки прокляла, — говорит Анна и смотрит Долохову прямо в глаза. — Я — это другое. И не потому, что я чем-то лучше тебя. Я сбежала от вас обоих. Дело не в этом. Я другое, потому что для нее я мертва. Я могу быть самой лучшей матерью на свете, Антон, понимаешь? Потому что меня нет на земле. Но ты… ты оставил ее жить с мыслью, что она не нужна никому, кроме твоего отца и матери. Тебе пятьдесят два, Долохов. А твой отец — до сих пор твой ночной кошмар. И ты оставил с ним ребенка. Просто потому, что у нее мои глаза? Она жила двадцать восемь лет с мыслью, что у нее нет отца, а потом ты появился и снова исчезаешь? Тебе не кажется, что эту дверь в родительство, — Анна морщится, — нужно открыть хотя бы когда-то? Потому что сейчас ты делаешь с ней то же самое, что ты делал когда-то со мной: ты бежишь. Как будто тебе двадцать. Потому что бежать проще. У меня нет дочери, — снова повторяет Анна свое заклинание, — и я не хочу ее видеть. Но и ей не стоит видеть меня. От тебя она может узнать историю об отце, который любил ее мать, который ошибся, но осознал ошибку, который может предложить ей помощь, защиту. Хоть что-то. А от меня — историю о двух идиотах, и о том, что она — не более чем нелепая случайность. Дитя насилия и ненависти. Что лучше, Антон? С чем лучше жить еще двадцать восемь лет? И не говори мне, что она не ребенок. Ты сам создаешь Британию, в которой женщине в двадцать восемь жить одной так же страшно и опасно, как девочке в десять. Своими руками.