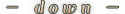Почему почему почему почему?
Почему от воспоминаний про нее становится больнее?
Я не хочу вспоминать ту весну, мы пришли сюда не за этим.
Вообще не за этим.
Почему именно та весна? Почему именно то воспоминание? Почему оно разрушает до основания настолько сильнее, чем те воспоминания об отце?
В том воспоминании хочется раствориться. Это и правда была хорошая, очень хорошая весна. Он ведь ждал ее на пирсе, почему-то как никогда ждал, хотя не видел ее всего два месяца, что такое два месяца, когда они планировали жить порознь все десять. Два месяца и четыре дня, если точнее. С каких-то пор он начал считать дни, наверное, с того момента, как захотел, чтобы считать не пришлось. Долохов пытается выбраться, но так не хочется, нет, надо вернуться туда, ведь тогда еще все было хорошо, надо вернуться туда, можно же все исправить, до несчастного 1949 года еще есть время, он теперь знает, что делать, надо вернуться туда, была такая хорошая весна, он ее ждал на пирсе…
Ему потребовалось какое-то недюжинное усилие, чтобы себя оттуда выдернуть. Снова их спальня, она снова напротив, в ее руках этот треклятый медведь.
Долохов буквально запыхается, словно он пробежал лишний километр по лесу. Хорошо, Аня, я тебя понял. Все не так уж и просто. Если раньше он думал, что осознание и ожидание иллюзии, пусть и такой хорошей, как у нее, могут помочь из нее выбраться, то Анна ему четко указала на то, что это только проявление слабости. Никакое осознание не поможет выбраться. Надо для начала признать, что даже осознание иллюзорности происходящего может быть вообще не твоей мыслью. Насколько глубоко ты залезла ко мне в голову, Аня? Неужели это настолько просто?
Его жена все еще сидит перед ним, и он узнает в ней те черты, что проявляются в ней, когда она знает, что права. То, как она сидит, то, как она говорит, даже то, как она смотрит на этого долбанного медведя, выкинь ты его уже, у меня такого не было! А у кого он тогда был? У… Нет. Нет нет нет нет, эту карту ты не будешь разыгрывать, нет. Ты не вытащишь нашу дочь из моей головы, ты не пойдешь на это.
Или…?
Долохов не успевает задержаться на этой мысли, потому что крики отца, разговоры, воспоминания — причем, не только его — вновь забирают его к себе, а он бежит за ними и не может остановиться. Сколько он уже ходит по этому дому? Сколько он уже бежит? И кто с ним говорит все это время: отец или Аня? Или они оба?
Страх осознания невозможности что-либо с этим сделать постепенно подбирается к сердцу. Конечно к сердцу, ведь он всегда оживлял, начиная именно с сердца — центра человеческого тела. Этот страх не такой молниеносный и иррациональный, как от Mento Menores, этот страх еще непривычнее. Он постепенный, осознанный и одновременно непонятный, четко направленный. Четко ли? Он боится ее или его, ее или его, ее или его…
Как долго он бежит? Сейчас бы закурить, но ведь он бежит не от нее. Как долго, Антон?
Долохов останавливается, озираясь по сторонам и пытаясь понять, кому он должен ответить на вопрос. Ане, которая в спальне, или отцу, который возможно не отец, но который точно везде. Как долго это продолжается?
Жена стоит перед ним, и все в ней выдает то, что она знает, что она права. Что она управляет его сознанием так, как ей вздумается. Что он, дурак, поверил, что может вносить коррективы. Не может. Ничего ты не можешь, не достоин ты. Чего ты добился? Неважно, чего ты добился, ведь все закончится в старом маггловском доме, который наверняка лишь издали напоминает дом твоего детства. Отец снова кричит его имя, снова говорит о том, что ему не стоило возвращаться, чтоб ты сдох, жаль, нам не удалось завести еще детей, надо было тебя заменить, закрыть в морге в Дурмстранге, никто бы и не заметил.
Надо вернуться в весну 1947, тогда ведь все было правильно, возможно, я еще умел обнимать тебя просто так, да даже если этого и не было, даже если ты это придумала прямо сейчас, лучше вернуться туда, я не хочу отвечать на твой вопрос, жестокая ты сука, как тебе это удается каждый раз с восемнадцати лет, сукаблять, прав был Игорь, не надо было тебя находить, о чем я, конечно надо было, кентавр тебя задери, Аня, какая хорошая была весна в 1947 году.
— Я не знаю, — отвечает он как ни странно твердо, хотя ответ дается ему с очень большим трудом. — Я не знаю, сколько мы здесь. Кажется, я окончательно потерялся.
Голос возвращается эхом, и только тогда Антонин понимает, где они. Подвал.
Ну это уже слишком!
Он чувствует, как в руке оказалась волшебная палочка. Тепло в ней постепенно становится все жарче.