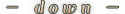[status]чудовище[/status][icon]https://i.ibb.co/vwSb4gf/20.png[/icon][info]<div class="lzname"> <a href=«http://stayalive.rolfor.ru/viewtopic.php?id=761#p54481»>Антонин Долохов </a> </div> <div class="lztit"><center> 23 года; Локи|1944</center></div> <div class="lzinfo">чистокровен <br>ассистент преподавателя по некромантии в Дурмстранге <br></div> </li>[/info] Анна не возражала. Не поднимала шум. Не истерила. Не пыталась вывести его из себя. Не устроила ни одной сцены. Великий Мерлин, он бы успокоился, даже если бы она проронила хотя бы одну слезинку по этому французу или хотя бы тому факту, что ее муж пошел на преступление.
Но Анна замолчала. Не на совсем, это было бы слишком даже для нее. Но она словно сдалась. Не стала устраивать скандал из убийства Арно. Смиренно поехала за ним в Дурмстранг. Она не возражала и не шла наперекор. Словно была и словно ее не было. Просто какая-то тень ее самой, которая теперь везде следовала за ним.
Но он же этого и хотел? Притащить ее за собой, чтобы больше не повторить всех тех глупостей, которые они уже натворили. Попытаться что-то исправить, хотя было непонятно, что вообще можно исправить и было ли вообще какое-то «что». Поэтому Антонин решил тоже замолчать.
В какой-то момент стало проще, а дни стали похожи один на другой, что заставляло время течь все быстрее. Утром он уходил на занятия, вечером возвращался, они ужинали с преподавателями и шли к себе. За закрытыми дверями ровным счетом не менялось ничего: Долохов решил, что не будет принуждать свою жену ни к чему, если только она сама того не попросит. В конце концов ведь это она решила променять его на другого. Значит, на то были причины, и эти причины явно не крылись в одной только ее обиде за тот его отъезд в Швецию.
Мужское самолюбие уязвить достаточно просто. Как бы банально это ни звучало, но любого мужчину выбьет из колеи тот факт, что он больше не единственный. И особенно больно будет, если кроме «единственного» ты был «первым». Значит, где-то не справился, где что-то сделал не так. Конечно, можно много говорить о том, что все познается лишь в сравнении, но Антонин бы предпочел этому сравнению не поддаваться.
Они ни разу не обсудили возникшую историю с Арно Рюэлем. Он не мог угадать, почему эту тему не поднимала Аня, но сам ее же не трогал, потому что так сильно въевшаяся ревность никак не хотела уходить, а признавать себя просто ревнивым мужем не хотелось. Было самому обидно, что он угодил в такой омут, затянув себя туда самостоятельно.
Где-то к концу мая ему показалось, что неожиданно молчание может прерваться.
— Марк Денисович, когда-нибудь я решу, что вы либо хотите споить мою жену, либо забрать ее себе, — он оперся на косяк у входа в беседку, где снова нашел капитана флотилии Дурмстранга в компании Анны.
— Что вы, что вы Антонин Романович! — тут же подобрался моряк. — Я же так, этова… Скрашиваю ожидание, пока вы на занятиях.
— Марк Денисович, будьте аккуратны, — заговорщически наклонилась к нему Анна, — Антон всех посягающих на мою честь потом со студентами в морге препарирует, — она насупила брови, а потом рассмеялась.
— Аня! — округлил глаза Долохов, не зная, чему удивляться: этой якобы невинной шутке или тому, что она снова впервые за такое долгое время назвала его Антоном. — Пойдем, темнеет уже.
Возможно дело было в том, что Марк Денисович и правда позволил себе немного ее напоить, а может ей просто надоело молчать. Анна предложила пойти чуть более длинной дорогой до школы, предложив прогуляться. Рассказывала ему морские байки, которые только что услышала, расспрашивала про его студентов — к его удивлению, каких-то она даже помнила по именам и даже отпустила пару шуток о том, что он не преподаватель, а тиран, у которого проще сразу пойти на отработку, чем сделать домашнее задание. И они даже поспорили на эту тему словно бы даже как в какие-то «старые добрые времена».
И за закрытыми дверями словно бы стало немного теплее. Антонин осознал, что последний раз по-настоящему целовал свою жену примерно год назад, примерно тогда же последний раз говорил ей, что скучает, и, кажется, тогда же принял решение сказать ей когда-нибудь, что полюбил ее. И именно в ту секунду в нем словно что-то доломалось.
— Почему ты это сделала? Почему понадобилось найти другого, чтобы доказать мне, какой я ужасный муж?
— Долохов, ты сейчас серьезно хочешь об этом поговорить? Вот прямо сейчас?
— Когда-то же нужно. И я хочу знать, что совершил преступление ради чего-то действительно серьезного.
— Приятно, что ты все еще думаешь в первую очередь о себе, Антонин.
Они замолчали еще на месяц.
Когда Долоховы вернулись в Париж, молчание обратилось в уже ни чем не сдерживаемый конфликт, который разразился новой, ранее неведомых размеров волной. Это молчание его доканало. Добили ее покорность, смирение, невозможность и нежелание идти навстречу. Это было намного тяжелее, чем если бы они ругались каждый день, били посуду или что там еще делают в порыве злости.
И вот они заговорили.
— Я не могу это тащить один, Аня. Нас двое. И решать это надо вдвоем.
— Ты неисправим, Долохов. Бедный несчастный муж, как же тебе тяжело! Ты обо мне подумал? Я ради тебя бросила все, к чему стремилась! Я честно старалась…
— Я предлагал варианты жизни порознь. Я говорил, что не готов на постоянное сожительство, потому что из этого ничего не выйдет. Я говорил, что не готов ничего чувствовать к тебе. Но что ты сделала? Ты позволила себе решить, что мы к этому готовы. И потом я виноват?
— А как будто было плохо, Антонин?
— Видимо, было, раз тебе пришлось найти мне замену! И чем, чем он оказался лучше меня?
— Да всем! Как минимум, он не ставил свои цели и желания превыше моих! И у меня никогда не было ощущения, что я делю постель с монстром! Ты убил человека, Долохов!
Впервые Антонин услышал слово «монстр» из уст отца. Оно звучало тихо, специально, чтобы мальчик его не расслышал, но все же недостаточно тихо. Потом еще раз. И еще раз. С каждым годом все чаще, а после поступления в Дурмстранг — практически постоянно. Долохов ненавидел это слово, потому что оно придавало максимально негативную окраску всему его естеству: словно отец хотел вбить ему в голову, что таким, какой он есть, его не примут никогда, потому что монстры в этом мире никому не нужны. И перестал слышать эту характеристику с лета 1944 года, когда женился. Ведь монстры не женятся. Значит, с ним все-таки что-то еще нормально. Или все-таки нет?
Антонин резко схватил ее и вместо того, чтобы сказать ей еще раз все то, что он о ней думает, сделал то, чего не делал никогда и обещал себе никогда не делать: использовал силу. Грубую, тупую мужскую силу. Ту самую, которую унаследовал от отца. Использовал, абсолютно не думая о последствиях, не думая о том, причиняет ли он боль, и насколько эта боль физическая или душевная. Причинял эту боль с максимальным рвением и присущей ему дотошностью — чтобы причины буквально впечатались в ее тело и сознание, словно он применил к ней Круцио без помощи палочки собственными руками, предварительно сдобрив это теми самыми розгами, которыми так часто его потчевал отец.
Где-то в процессе Аня пыталась вырваться и закричать, но он лишь злобно прошипел, что она либо заткнется сама, либо он ее заставит. Слышал себя словно со стороны и словно это и говорил вовсе не он, даже голос самому себе казался чужим, но он был настолько в ярости, что не смог себя уже остановить.
— Антонин Долохов, какая же ты все-таки мразь, — четко проговаривая каждое слово, сказала она, лежа рядом с ним на кровати и часто дыша. — Посмей только еще хоть раз ко мне прикоснуться или зайти в эту спальню, и, честное слово, я тебя убью. Выметайся.
Антонин ничего не ответил. Молча наспех оделся и вышел из комнаты, хлопнув дверью и крича домовику, чтобы та приготовила его старую спальню.
На следующий день она оставила ему записку: «К твоему сведению, по настоянию семейного колдомедика я решила сделать перерыв в приеме противозачаточного зелья и не принимаю его уже четыре месяца. Если я окажусь в положении, то буду ненавидеть тебя до конца твоей гребанной жизни, даже если ты найдешь способ преодолеть Смерть».
Долохов не стал надолго задерживаться дома, и сорвался навестить Игоря Каркарова, с которым уже несколько лет не виделся. Главным преимуществом Игоря было то, что он никогда не задавал лишних вопросов, и ему не нужно было объяснять, что у тебя происходит на душе, пока ты сам не решишься. В этом они с Антонином были очень похожи, и, возможно, именно то лето и сделало их хорошими приятелями, а после — друзьями. Долохов полностью погрузился в изучение тех сторон темной магии, которых раньше предпочитал так глубоко не касаться. Боевые заклинания, пыточные — все, что было сконцентрировано на боли. Про Анну он старался не думать, хотя та сцена в их спальне его преследовала еще какое-то время: он видел все снова и снова словно с позиции наблюдателя. И самым ужасным было то, что он видел, что он делает, видел, как ей было больно, но не стремился себя остановить.
Когда он прибыл в Дурмстранг, его уже ждало письмо с известием о беременности его жены, которое не всколыхнуло в нем вообще ничего. С ответом Анне он не спешил, но написал семейному колдомедику и настоятельно попросил сообщать ему лично о течении ее беременности, о результатах каждого осмотра и каждого анализа. Написал письмо родителям, где выразил ожидание, что они создадут максимально благоприятную обстановку для Анны и ее будущего ребенка, а также что не посетит их на новогодние праздники.
Долохов осознал для себя, что в отношении своей жены он вступил на тот путь, где ему не должны помешать какие-либо эмоции, которые могли неожиданно возникнуть, увидь он ее беременной. Он мимолетно вспомнил, что когда-то даже хотел от нее детей, и не хотел, чтобы это воспоминание ожило в нем.
В итоге, по сути, его последним ярким воспоминанием о жене был тот самый день, когда он ее изнасиловал. И последнее выражение лица, которое он помнит, было полно боли и отвращения.