WINTER NIGHT
закрытый эпизод
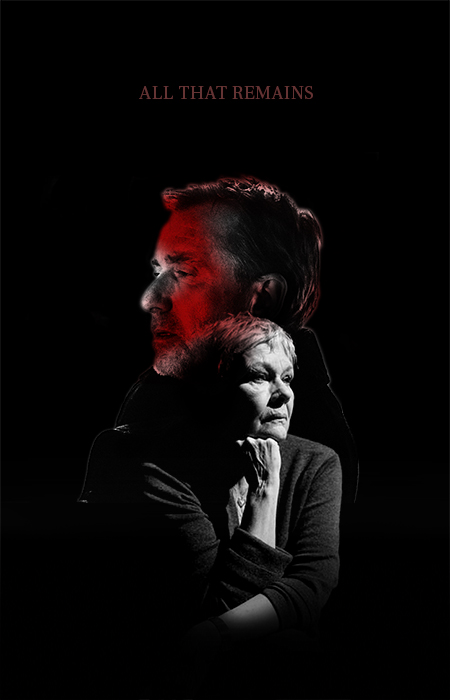
◊ Участники:Элеонора Коветт и Людвиг Уилкинс | ◊ Дата и время:21.02.1978, вечер | ◊ Место:дом миссис Коветт |
◊ Сюжет: Все ломается
- Подпись автора

Marauders: stay alive |
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » Marauders: stay alive » Незавершенные отыгрыши » [21.02.1978] winter night
WINTER NIGHT
закрытый эпизод
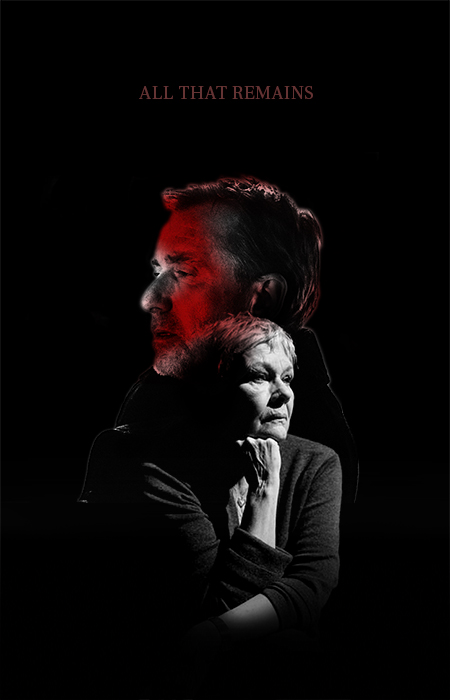
◊ Участники:Элеонора Коветт и Людвиг Уилкинс | ◊ Дата и время:21.02.1978, вечер | ◊ Место:дом миссис Коветт |
◊ Сюжет: Все ломается

Голова перестала болеть только к вечеру, и Элеонора наконец вздохнула с облегчением. Обручи, мешавшие думать, читать, отвечать на накопившиеся письма и даже просто лежать, разжались, но, к сожалению, слишком поздно, чтобы она могла считать двадцать первое февраля хоть сколько-нибудь продуктивным днем.
Норе смутно помнилось, что когда-то давным-давно Людвиг давал ей чудесное зелье от головной боли. Оно наверняка сохранилось где-то, среди склянок со своими зельями, которые он оставлял в ее ванной комнате. Но вспомнила она об этом слишком поздно, уже когда снадобья, оставленные ее личным семейным колдомедиком начали действовать. Из чистого упрямства – она, кажется, начинала понимать Людвига, собиравшегося в оперу несмотря на доводы здравого смысла и ее намеки, - Нора неохотно выбралась из-под одеяла и отправилась в ванную комнату. Перебрала все скляночки, которые Людвиг, при участии Лоскутика, хранил в идеальном порядке, но зелья, которое ей запомнилось, так и не нашла. Проклянув все к мантикоровой бабушке, Нора вернулась в постель.
На тумбочке ее ждала стопка писем от соискателей, деловых партнеров, дальних знакомых и более близких приятелей. Кто-то торопился решить с ней свои дела, кто-то искренне или не очень беспокоился о ее здоровье. Откуда-то возникло письмо от кузена Мантера и еще одно, от его матери, но их Нора отложила в сторону, не читая. Мантеры требовали хоть сколько-нибудь неформального ответа – в тяжелое время, в котором они все вдруг оказались, было глупо разбрасываться родственными узами.
За всеми этими заботами, как будто бы накопившимися с того вечера, когда она, надев новое, специально пошитое для случая, платье, отправилась слушать «Призрака оперы», пряталось самое главное. То, о чем Нора старательно избегала думать. Потому что думать о взрыве спокойно она не могла до сих пор.
Жар, лизнувший ее лицо. Крики. Паника. Смазанное в памяти лицо Людвига и, кажется, его рука. Телохранитель. Еще крики. Резкий удар, будто из легких вышибли разом весь воздух. Боль. Неестественный изгиб руки. И снова боль, когда колдомедики пустили в ход костерост. Обручи, оставшиеся к двадцать первому числу только на ее голове, еще совсем недавно сковывали все ее тело. Она, как в своем ночном кошмаре, не могла ни ходить, ни толком говорить, ни даже думать. Если бы не Леопольд, временно взявший на себя и свои обычные заботы об издательстве, и заботу о том, чтобы у нее была хорошая палата и достойный уход, она могла бы оказаться совершенно беспомощной. Совершенно беспомощной.
Почему-то именно это звенело у Норы в голове, когда в палату принесли записку от Людвига. Она узнавала о его самочувствии. Ему, кажется, досталось больше. Ей нужно было его проведать. Но она не могла. Это было мерзкое ощущение преждевременно наступившего бессилия. Она не могла к нему пойти. И написать что-то, помимо того, что идет на поправку – тоже. Чего он ожидал, когда писал ей сначала записку, а потом – письмо? Развернутого сочинения на тему того, что им не стоило ходить в оперу? Не только им двоим. Вообще никому, кто там был. Эту оперу нужно было запретить. Этот акт сближения – драккл его возьми – нужно было запретить тоже. Хотя бы отложить. Неужели в министерствах у магов и магглов сидели одни сплошные идиоты?!
Нора с раздражением оборвала себя на середине мысли, вдруг осознав, что она снова прячет свое бессилие за злостью. Это был не продуктивный путь. Совершенно не продуктивный.
Вместо того, чтобы продолжать баюкать свою немощь, – ноющую голову, легкие покраснения на лице, саднящую боль в ноге и руке – Нора надела домашнее платье, скроенное наподобие идеально сидящего наглухо закрытого сюртука, и, распорядившись, чтобы Лоскутик подал ужин, спустилась вниз.
Она ожидала обнаружить накрытый стол, но в столовой все было брошено в процессе: салфетка уже лежала на месте, а тарелка все еще стояла на подносе, приборы лежали там, где дурацкий домовик их оставил, когда отвлекся, а бутылка вина и вовсе была не открыта.
Прежде чем Нора успела задать вопросы, в передней хлопнула входная дверь. Бормотание Лоскутика оповестило прибытии гостя.
- Мистер Уилкинс, сэр, пришел, мэм, - почему-то глядя в пол, а не на нее, сообщил ей Лоскутик, появляясь на пороге столовой. – Накрыть еще приборы?
- Накрой, - помедлив, кивнула Элеонора и махнула рукой, отправляя домовика прочь. – И поторопись. Я сама встречу мистера Уилкинса.
Хотя Людвига давно уже не требовалось здесь встречать. Она просто вышла ему навстречу, чтобы столкнуться с ним в передней. Свет там падал так, что ее лицо выигрывало разом и у оперы, и у несовершенной колдомедицины.
- Тебя уже выписали? – вместо приветствия спросила она, чтобы избавить себя от необходимости выбирать, как сказать ему «здравствуй» и не оказаться беспомощной старухой.
Феликс ушел, кажется, даже довольный итогом беседы. На короткий миг это чувство с ним разделил и Людвиг, вот только умиротворение было кратковременным. Дела, дела, дела, в его голове крутилось столько планов, больших, маленьких, взаимосвязанных и совершенно нет, что было невозможно усидеть на месте. Для чего-то более серьезного, увы, время уже было слишком поздним, но каждая клетка его тела буквально требовала найти ей какое-то занятие.
Людвиг, позабыв как о трости, так и том, что еще совсем недавно еле волочился кривляясь в боли, вскочил с кресла. Надо было написать Шарлотт, выяснить как она там и какие ужасы ей за это время успели наплести. Плюс, он хотел навестить ее в ближайшие выходные, а для этого требовалось получить еще и согласие преподавателей. То есть, не то, что прямо согласие, хотел бы он посмотреть на того, кто бы попробовал ему сейчас запретить хоть что либо, а тем более навестить лишь едва ли обретенного ребенка, но как минимум было вежливо известить школу о своем намерении.
- Завари мне свежий чай, - рявкнул, нарисовавшемуся за его спиной с оставленной у кресла тростью Моне, Людвиг. Домовик испарился, но трость так и осталась висеть в воздухе.
- Да чтоб вас, - фыркнул мужчина, хватая, поддерживаемую в воздухе не то магией, не то невидимимы ручками второго эльфа, трость. Действие сопроводил легкий шорох, выдавая наличие Мане.
- И брысь, - закатил глаза Людвиг, - я позову если вы мне понадобитесь.
Бурлящая внутри энергия никак не позволяла сконцентрироваться, мысли, слова, какие-то сумбурные обрывки идей то появлялись, то снова куда-то уносились, по этому, кое как закончив письмо Шарлотт, мужчина поспешно сунул его в конверт, размашисто вывел адресс и услал письмо с Вельзевулом. Это было не рационально, но найти слова еще и для Декана никак не получалось. Людвиг отодвинул письменные принадлежности и хватился за накопившиеся за неделю личные письма. Буквы в них прыгали, слова плыли и общий смысл никак не желал до него доходить. Кое как собравшись, Людвиг прочитал одно, потом второе, но на третье его уже не хватило и уже раскрытое, но так и не дочитанное письмо полетело на стол.
По середине комнаты нарисовалась ушастая фигурка Моне. - Хозяин звал? - пропищало создание, вынудив Людвига в удивлении вскинуть брови. Никакого эльфа он не звал и треклятому Моне это должно было быть прекрасно известно. Людвиг даже хотел ему об этом сообщить, но уже раскрыв было рот передумал. Сердобольно обеспокоенный взгляд домовика будто бы заставил зашевелится какую-то новую, еще не до конца сформировавшуюся, но явно готовую вынырнуть на поверхность мысль. Надо было только ее не упустить, не дать той улететь как улетели все предыдущие. Людвиг сконцентрировался на ушах домовика. Почему именно их, он не имел ни малейшего понятия, но оно вроде как даже работало. Мысль просунулась чуть дальше и даже начала приобретать форму. Он перебрал. Это лихорадочно взбудораженное состояние было симптомом передозировки. Черт. Его взгляд на момент сместился с эльфа и тут же пропала и концентрация. Людвиг стремительно поднялся и двинулся.. куда-то, наверное в лабораторию за чем-то могущим сработать на подобие антидота, но на пути туда передумал и свернул в гостиную. Он не мог искать антидот, если толком не помнил, что именно выпил, а бутылочки с зельями он вроде как оставил там. За спиной раздались шаги и Людвиг резко обернулся. Это снова был Моне и снова с тростью.
Да, чтоб вас черты подрали, подумал мужчина, снова забирая трость. Мысли очередной раз сбились, взгляд заблуждал по комнате в поиске ответа. Он говорил с Феликсом о планах на будущее, так? Взгляд переместился к камину, через который этот самый Феликс отправился восвояси. Чуть выше, на каминной полке стоял ряд фотографий. Мама с братом. Феликс. Ник с Шарлотт. Он писал ей письмо, надо было еще написать Декану, он просто не мог сконцентрироваться.
- Принесите мне успокоительного, - произнес он в никуда на короткий миг поймав упущенную мысль за край. Стоящий за его спиной, ну конечно, где же этому проклятию еще быть, эльф испарился с тихим хлопком.
Взгляд Людвига споткнулся за еще одну фотографию. Письма. Он писал ей письма, а она так ни черта и не ответила. Ну ничего, взбрыкнули мысли в голове Людвига, он может сам пойти и спросить. Лично.
Мужчина резко развернулся и уже направился к выходу из дома, когда вернулся Моне. Ушастое создание протянуло ему склянку. Ах да, он же послал его за зельем. Даже толком не взглянув на этикетку Людвиг осушил пузырек. Жидкость была вязкой, прохладной, но более чем приятной на вкус. Он не имел малейщего понятия что только что принял.
- На улице холодно, хозяин, - пискнул эльф у него в ногах.
- Что? - растерянно перепросил мужчина.
- Хозяин собрался в гости, но на улице бррр, - очень даже правдоподобно изображал дрожь Моне.
Бррр было не очень вдохновляющим и Людвиг уныло поплелся переодеваться, одеваться и что там «мамочка-с-папочкой» от него еще хотели. Облачившись в чистую рубашку и брюки, впихнув ноги в начищенные до блеска сапоги и застегнув все до последней пуговицы черного(других у него просто не было) сюртука, Людвиг внезапно ощутил, что гнавшая и подгонявшая его еще минутами ранее лихорадка отступила, мир вокруг теперь казался на удивление ясным и понятным. Он оглядел свое отражение в зеркале. Бледное, осунувшееся лицо, внезапно проступившие скулы, темные круги под глазами, едва ли он мог сойти за первого красавца пусть даже захудалой деревни. Людвиг пригладил волосы, прошелся по подставке с удобно преподнесенными ему кольцами и прочей мелкой мишуры, всей как одно припичканы такими или иными чарами. Наконец, отобрав парочку, Людвиг надел кольца, забрал с другой подставки подвеску порт-ключ в дом Норы, и оглянулся на стоящих рядом словно по струночке Моне и Мане.
- Ну, и где моя трость? - поинтересовался он.
Едва ли он знал, что именно ожидал увидеть аппарируя к дому женщины, которая даже не считала нужным ему ответить, но, наверное, не полную темноту. Огромный, уж по меркам Людвига, слишком большой для одного человека особняк казался пустым, не то, чтобы брошенным, но как-то полуживым. Может в этом и скрывался ответ, Нору просто тут не было? Тогда, где именно она была? Какая нелепицы, но в любом случае, ответ мог найтись внутри, а у него давно было доступ к этому дому, ровно так же как к его собственному доступ был у Элеоноры. Людвиг преодолел короткое расстояние до входной двери и вздрогнул, когда дверь перед ним неожиданно и совершенно бесшумно раскрылась, озаряя домовика Элеоноры, а за ним далекий отблеск все же горящего в доме света. Значит не пропала, значит вполне себе есть, а следовательно ничто не мешало ей ответить, внезапно раздражаясь заключил Людвиг и отодвинул домовика вместе с дверью, прошел внутрь.
Дверь за ним захлопнулась, оставляя в тонувшей в полумраке прихожей. Да какого черта тут происходит, словно не в дом попал, а в похоронное бюро, сварливо подумал мужчина, под тягостно завывающие причитания Лоскутика начиная избавляться от зимней мантии. О чем именно ныл домовик Людвиг не прислушивался, его это не интересовало, а вот то какого черта тут навоображала себе Элеонора очень даже.
Кое как уговорил домовика, что никакие домашние тапочки ему не требуются, Людвиг двинулся дальше и почти тут же наткнулся на двинувшую ему на встречу Элеонору. Вполне себе жива и цела, заключил никак не могущий унять ирритацию мужчина, не то, что ему требовался ответ на данный вопрос, все это он уже выяснил в больнице. Если тебя стукнули по голове огромной глыбой камня, ну или чем там именно его стукнуло по голове в опере, то вполне можно давить на жалость сестричек, готовых для тебя выяснить в деталях как там здоровье твоих знакомых, даже большую и светлую любовь приплетать не потребовалось.
Нора остановилась в паре шагов и Людвиг тоже остановился. В голове снова все свалилось в одну большую кашу из которой он никак не мог вытащить хоть одну здравую мысль или предложение. Он был зол и это не позволяло сказать, просто «Привет», но видимо все же не настолько зол, чтобы начать с самого главного — с «какого дракла, тебе так трудно ответить на мои письма?» По этому он просто стоял, как стояла и она. Наконец, женщина заговорила, вызывая у Людвига громкое фырканье.
- Я сам выписался, - в конце концов придал ему словесную форму Людвиг.
Наверное, он должен был сказать еще что-то. Например, поинтересоваться, как сама Элеонора, но вместо слов в коридоре снова повисла неудобная тишина.

Первый неловкий размен фразами повис между ними, и они оба замолчали, рассматривая друг друга. Чем дольше тянулось это молчание, тем сильнее воздух вокруг Людвига сгущался и дрожал от раздражения, и тем меньше Норе хотелось говорить хоть что-то, потому что на язык просились только слова, нашептанные ее собственным раздражением и злостью. Беспомощностью, если смотреть правде в глаза.
«Я сам выписался» - это было очень похоже на Уилкинса. Нора уже не помнила наверняка, но легко могла допустить, что, когда он без чувств валялся в ее доме много лет назад, он тоже готов был «выписать» себя в тот день, когда без посторонней помощи поднялся с кровати. Это всегда вызывало у нее уважение – в отличие от многих других людей, готовых при любом удобном случае сложить лапки и отдаться жалости к себе, Людвиг всегда готов был действовать. Энергия, которой с лихвой хватало на них обоих, бурлила и вибрировала у него внутри и для Элеоноры всегда относилась к числу неоспоримых достоинств. Всегда, но не сегодня. Не сегодня, потому что после взрыва Уилкинс должен был проходить курс лечения в Мунго. Восстанавливаться, а не нестись сюда так, словно ничего не случилось и одновременно – как будто случилось что-то очень страшное.
Краем сознания Нора ухватила мысль, что больше всего ее бесило, что Уилкинс явно не ощущал себя таким же беспомощным, как она. И бесило ее это только потому, что даже разговор с Эйданом, на некоторое время встряхнувший ее, не смог вернуть ей полного и долгосрочного ощущения контроля над собой.
- Что значит – ты выписался сам? – спокойно уточнила Нора, не делая больше ни шага навстречу, хотя ей очень хотелось. Она скучала. Ей не хватало спокойной уверенности Людвига, его более дурашливого, чем у нее самой, отношения к жизни, подсказывавшего ему другие, более ловкие и подчас изящные, решения проблем. Ей вообще не хватало Уилкинса. Она скучала. Но попадать в его личное пространство, звенящее, с туго сжатой пружиной нервов в самом центре, Норе тоже не хотелось – что-то подсказывало ей, что ничего хорошего, пока в разговоре не появится больше определенности, из этого не выйдет.
- Ты что, не долечился?
Как вообще можно так себя вести?! Это же не глупость, не беспечность, это просто нечто выходящее за рамки ее понимания: в Королевской опере случился взрыв; они пострадали; им предложили лечение. Бежать куда-то, не убедившись, что это одобрено колдомедиками, что риска для жизни и здоровья больше нет – это значит портить жизнь самому себе. И Людвиг, по ее наблюдениям, никогда в таком раньше замечен не был. И уж точно не сейчас, когда на его попечении была Шарлотт.
Нора поймала себя на мысли, что ищет хоть какой-нибудь официальный повод для того, чтобы злиться на Уилкинса. Это позволило бы ей стать яростной, сильной, метафорически даже выше ростом. Злость всегда придавала ей сил. Но официального повода не было – она была просто рада его видеть, нервным, недолечившимся, раздраженным. Настолько же разобранным, наверное, насколько была разобранной она сама.
Она собиралась отвесить резкое, как оплеуха, замечание, но вместо этого сделала просто вдох. Еще немного тишины между ними и готовой вот-вот разразиться бури.
А потом Нора просто устало выдохнула и стала одновременно собой и как будто бы ниже ростом.
Казалось бы столь лет отношений должны были вымыть из них все наносное, оставить лишь саму суть, некую ясность о том, из чего именно эти отношения состояли. Но чем больше проходило лет, чем больше событий они делили на двоих, тем сильнее мутнел образ, тем менее ясным становилось то, что в их отношениях существовало на самом деле, а что было лишь красивой иллюзией, красочной шпаклевкой прикрывающей гниль, которая пряталась за фасадом. А остановится на чем-то одном, просто остановится и уйти при этом казалось невозможным.
Когда-то их соединяла лишь праздность бытия, удобства без обязательств. Им ничего было не надо друг от друга, они ничего не ждали и не требовали, просто делили на двоих то, что им обоим доставляло удовольствие. Хорошего и приятного становилось все больше, там где раньше были часы, появлялись дни, к ним присоединялись ночи, и те и другие из иррегулярно разбросанных тут и там, становились постоянными. Соотношение жизни которую они при этом делили и не делили друг с другом как будто бы не поменялось. Они все еще были друг другу просто кем-то удобным, привычным. Быть может все поменялось, когда к первым другим прибавилось еще и надежным. От куда могло появится чувство, что ты можешь положится на другое, если они ни разу это в друг друге не испытывали, кто знает. Но оно появилось и понемногу разрасталось все больше и больше, начиная отбирать место и удобства и привычки, протягивая свои ростки в сторону обязательств. Стало невозможно не зайти и не остаться, если второй приболел и надо было окружить его или ее заботой, пусть даже с ней были более чем способны справится домовики. Было невозможно не разделить маленькие и большие рабочие триумфы и разочарования. Не поздравить или не высказать соболезнование, искать и найти возможность порадовать или доставить удовольствие. Проявить свою симпатию, жестом, делом, подарком. Появилась легкость в том, чтобы делится чем-то более личным, ранее ни с кем не разделенным. Все это росло и прорастало, пробираясь все глубже, забирая себе все больше, но они все пребывали в той самой изначальной вере о удобствах без обязательств. Быть может они никогда бы и не заметили этой опасной близости, не будь той проклятой ночи четыре года назад. Тогда, в одночасье выяснилось, что из просто оно внезапно стало сложно, а попытки высвободится приносили с собой лишь чувство слишком похожее на боль, а может быть страх, в любом случае оно оказалось слишком неприятным, чтобы они осмелились повторить этот опыт, так и застряв с тех времен где-то между, не будучи в силах ни разойтись, ни сблизится.
- Это значит, что я счел свое дальнейшее пребывание в больнице нецелесообразным, - сухо, даже еще более ровно, чем это произнесла Элеонора, ответил на вопрос женщины Людвиг.
Для него это был решенный вопрос. Шатаясь по отделу травм он лишь раздражал себя и едва ли приносил удовлетворение от проделанной работы по склеиванию его обратно персоналу. Лежать или не лежать, принимать лекарства и раз от раза беседовать с колдомедиком он мог и не пребывая в Мунго. Плюс, вне больницы он мог заняться чем-то действительно полезным, а не лишь изучать от корки до корки очередной выпуск газет. Разлеживаться в больнице сейчас просто не было времени.
- А ты что, больше не способна ответить на письмо? - вырвалось у него само собой. Холодная, расчетливая Элеонра Коветт и не могла просчитать такой простой алгоритм и понять, что отсутствие ответа не сделает его мирным и покладистым, а скорее наоборот, разгонит кровь в жилах лишь сильнее?! Какая чушь. И одновременно с этим, вот она стояла перед ним так, словно его визит стал для нее сюрпризом. Словно сам факт, что он мог желать к ней придти и узнать, что именно с ней происходит, был чем-то ей совершенно непонятным и чуждым.
Раздражение внутри Людвига закипало с новой силой.
- Знаешь ли, когда получаешь в ответ лишь тишину, начинаешь беспокоится, - уже совершенно ядовито просипел мужчина. Его единственный зрячий глаз впился в прячущиеся в полумраке коридора глаза женщины.
- Или быть может беспокойство это слишком не достойное слово, чтобы употреблять его в доме мадам Коветт? - прошипел он, делая шаг ближе.

Нецелесообразным. Вот оно что. При других обстоятельствах это вызвало бы у Норы улыбку – своенравный, сварливый Уилкинс, который всегда знал, что ему нужно, куда лучше, чем все остальные. В лучшие времена эти черты были его неоспоримыми достоинствами, радующими, умиляющими, украшающими жизнь, которой по привычке, усвоенной с детства, руководил преимущественно императив извне. Сегодня то, что прежде казалось достоинством, вызывало только еще большее раздражение – своевольный, упрямый, не думающий ни о ком и ни о чем, кроме себя и своих сиюминутных прихотей Уилкинс, который просто взял и ушел из Мунго, наплевав на то, что здоровье ему было нужнее свободы от оков больничной койки. Дракклов Уилкинс!
Все это Норе хотелось высказать ему в лицо. А еще лучше – выкрикнуть. Это было бы неразумно в ее состоянии, наверняка вызвало бы головную боль и попросту породило бы взрывную волну, которая смела бы последнюю надежду на спокойный вечер, но дромарог дери, как ей хотелось перестать просчитывать ситуацию наперед!
Злость, клокотавшая внутри, как закипевшее зелье, захлебнулась, нейтрализованная не то ее собственной усталостью, не то тоном Людвига, так похожим на ее собственный и так же клокотавшим внутри. Они же были взрослыми людьми, состоящими в давным-давно обговоренных, имеющих четкие рамки отношениях. Злиться, равно как и беспокоиться, не полагалось, потому что злиться и беспокоиться – значит, вмешиваться и переходить давно прочерченную черту, шагнуть на территорию, где никаких договоренностей уже не существовало, и во всем приходилось импровизировать.
Импровизировать, как ни странно, могло бы быть даже проще. По крайней мере, так казалось той части Норы, которой не терпелось сначала выйти из себя, чтобы выпустить пар, а потом успокоиться, утащить Уилкинса ужинать и, наконец, поговорить о том, что случилось в опере по-человечески. Как взрослым людям, у которых были обязательства перед ребенком. И, разумеется, друг перед другом тоже.
Но что-то не позволяло Норе преступить черту. Может быть, природное упрямство. Может быть, выражение лица Уилкинса и его упрямое, раздражающее поведение. Нора стояла, не двигаясь, непроизвольно сжав кулаки так, что ногти впились в кожу.
- Нецелесообразным, - повторила она, едва скрывая раздражение. – А колдомедики что говорили?
Уилкинс жил так, словно у него на попечении не было Шарлотт. Словно он не должен был остаться в Мунго ради нее, чтобы оправиться и быть способным ее защищать, воспитывать, учить, в конце концов, зарабатывать деньги им с Шарлотт на жизнь. Себя Нора не мнила якорем, способным удержать Уилкинса хоть от чего-то, но о способностях и важности девчонки все-таки была другого мнения.
- Мне нечего было тебе сказать, - раздраженно дернула плечом Элеонора. – Кроме того, что ты, должно быть, понял и сам – мне было физически больно. Приблизительно – очень. Навскидку – почти невыносимо.
Людвиг шагнул навстречу, разве что не капая ядом на пол. Большая удача для ее наборного паркета, что и говорить. Нора не дрогнула, только еще сильнее сжала руку, чтобы сдержаться второй раз.
- Думай о достойности слов так, как тебе угодно, - процедила Нора, глядя на него снизу вверх. – Я не думаю, что получи ты мое письмо, твое беспокойство бы рассеялось. Или, быть может, ты подразумеваешь, что всякое отправленное тебе от меня письмо должно быть исключительно утоляющим твое любопытство и беспокойство?
В какой-то другой ситуации, быть может даже лишь в другой день, вчера, завтра, когда нибудь, эта несгибаемая стойкость оловянного солдатика, которую Норе когда-то ввели внутривенно вместе с ежевечерней порцией невеселых сказок Ганса Кристиана, могла бы Людвига умилить и стать поводом для добродушного подтрунивания на весь остаток дня или даже недели. Но сегодня, в пустынном коридоре тонувшего в полумраке дома, все еще ощущая на затылке дыхание жгущей потребности идти, делать, вершить, менять, перекладывать и править, напускное спокойствие Элеоноры драло нутро как дерет запущенный кашель.
И тем не менее, он ответил спокойно, даже прохладно, с едва лишь уловимым отголоском звона столкнувшихся в ударе клинков в тоне, - Они просили подписать вот тут и вот еще тут, не забывать принимать вот эти вот лекарства, не переутруждаться и если станет хуже, непременно-непременно обратится к лекарю. У вас ведь есть свой, мистер Уилкинс, вот и прекрасно, чудесно, замечательно, скорейшего вам выздоровления, пока-пока, о-наконец-таки-он свалил, - на последних словах еле сдерживаемая Людвигом насмешка вылезла наверх и мужчина оскалил два ряда неровных, белых зубов.
Что она хотела услышать? Что колдомедики Мунго обладают не присущей никому более в этом мире сверхчеловеческой способностью творить добро и сеять благоразумие вопреки всему и всем? Или может ей требовалась красивая лож, добровольно отданное ей оружие, которым его тут же можно будет сразить, вернуть в больницу или хотя бы уложить в кровать? Или другая, такая, в которой он возродился из обломков Королевской Оперы более целым и здоровым чем был до нее?
Рассудительно отрешенная королева шведских льдов, что именно ты пытаешься отыскать? Какой мираж, какое кривое отражение мира тебе нужно, чтобы сохранить иллюзию, что тебя ничего не трогает, что ты выше, дальше, что можно просто развернутся и уйти. Не по этому ли так сжимаются твои губы, не по этому ли ты тискаешь ладони в кулаки, мм? Как там твои шведские льды, все так же не покоримы и стойки?
Стоя так близко, буквально вдыхая один и тот же воздух, было невозможно не заметить, что льды ломались, крошились, но не за что не хотели сдаваться. Проклятые чистокровные со своей верой в то, что испытывать чувства ниже их существа. Что это просто ниже, не достойно, неприлично.
Насмешка на лице Людвига сменилась злостью. Хотелось схватить женщину за плечи и как следует встряхнуть. Трясти так долго, пока с нее не спадет подледная унция упрямства не позволяющего признать, что она тоже человек, а не всего лишь породистая, вымуштрованная шавка с родословной от создателей.
- Думаешь, это означает, что надо терпеть эту боль в одиночестве? - ехидно поинтересовался Людвиг. Это не то и не так, как должно было обрести звук беспокойство, совершенно не сформулируемый страх, который обуял его нутро в больнице в миг, когда провал в его памяти был наспех залатан словами доктора о том, что в опере, в которую, по его воспоминаниям, он лишь только собирались в этом самом доме, только не погрязшем в мраке, а горящим всеми огнями светильником, где шутили и легонько флиртовали предвкушая вечер и последующую ночь, прогремел взрыв. А он не помнил ничего. Была пустота и страх, еще более ужасающий от того, что на короткий миг ему казалось, что он не способен вспомнить даже лицо Норы, вместо него лишь зияющая дыра. Ничто. Пустота. Кажется, он даже что-то свернул или навернул, в этом изначальном страхе и порыве, куда-то бежать, уж слишком не выносимой была эта ощущение.
Вот только пустота была не там, пустота была тут. Щерилась в него из кажущихся такими темными в неосвещенном коридоре глаз Элеоноры Коветт. Это ему требовалось заполнить появившуюся брешь, а ей было хорошо и так. В тьме, в одиночестве, среди не беспокоящих ее покой безупречных в своем содержании и внешности книг, забавных артефактов и красивых безделиц.
- Я подразумевал, что ты тоже способна быть человеком. Если не способным испытывать и проявлять хоть какие-то чувства, - продемонстрировав почти-что плотно сжатыми пальцами на какую кроху этих самых чувств он был бы готов согласится, прошипел буквально в разгневанное лицо Элеоноры Людвиг. Его собственное лицо горело, его тело лихорадило и отчаянно хотелось, что-то в этом проклятом доме разнести. Порядок и покой как иллюзия жизни. Это не более чем склеп с давно уже не живой хозяйкой. Да пошла она на хер.
- ..То хотя бы могущим ответить из вежливости. Я ошибался. Это слишком сложные для тебя концепты.

Несколько дюймов оставшегося между ними пространства вдруг начали пожирать сами себя, произнесенные и непроизнесенные слова, взгляды, которыми они буравили друг друга и, наконец, даже воздух, которым они дышали. Когда они с Людвигом ссорились, им всегда было тесно рядом, как будто различные точки зрения, происхождение, социальный статус, опыт и несколько лет разницы в возрасте никак не помещались на небольшом пространстве, когда находились в состоянии конфликта. Впрочем, так оно, должно быть, и было. По крайней мере, так оно ощущалось с семьдесят четвертого года.
Когда Уилкинс шел в бой с открытым забралом, как сейчас, вооружившись лишь ехидством и ощущением собственной правоты, его хотелось как следует встряхнуть и в лучшие годы – вытряхнуть из него эту странную самонадеянную дурь, позволявшую ему никогда не беречь себя и верить, что путь напролом, если очень хочется, самый оптимальный. От того, как легко и наплевательски он, только вставший с больничной койки, относился к себе и своему здоровью, что-то внутри Норы мгновенно дошло до температуры кипения. Возможно, это было то, что ворочалось в ней бессонными ночами, ныло, тянуло и болело, отзываясь то в ноге, то в руке, то стискивая обручами голову. Нужно было что-то делать. Об этом они говорили с Эйданом. до Эйдана – с Леонардом. Об этом она писала кузенам. Об этом размышляла, когда не могла уснуть и когда не могла сосредоточиться ни на письмах, ни на свежем выпуске «Пророка», ни на легкомысленной книге. Нужно было что-то делать. Но самое первое, что следовало сделать: прийти в себя. Прийти в форму. Поправить здоровье настолько, чтобы можно было вновь распоряжаться собой.
Уилкинс, видимо, не имел такой проблемы. Может быть, все решала разница в возрасте между ними. И разделявшее их десятилетие делало Уилкинса бойчее, легче, решительнее. Еще не прожитые годы увереннее несли его вперед, навстречу неизвестности, с которой он, судя по всему, собирался бороться. Он не чувствовал, по всей видимости, как тяжелеет, даже выздоравливая, его тело; как замедляется разум; как процесс принятия решений, прежде занимавший пару секунд, вдруг удлиняется и растягивается, потому что в него вдруг вкрадывается страх и незнакомая чрезмерная осторожность. Лучше перестраховаться, чем наломать дров. Но ты почему-то об этом забыл, Уилкинс. Ты почему-то пытаешься обмануть всех, ведя себя так, словно жизнь тебя ничему не научила.
- И что бы ты сделал, если бы я тебе написала? – процедила Нора, не отводя от него взгляда, не уступая ему ни пяди земли. Страх и боль пробирались в нее, стоило ей вспомнить свое состояние. Всякий раз, когда она возвращалась мысленно на койку Мунго, где она была не преуспевающей леди, чистокровной волшебницей, прямым потомком второго директора Дурмстранга, а жертвой катастрофы, обыкновенной женщиной, коих в Королевской Опере был целый зрительный зал и одна солистка на сцене, Нора возвращалась в тяжелое, саднящее, ноющее, порезанное осколками, побитое, поломанное тело. Телу было шестьдесят четыре года, и, судя по всему, шестьдесят четыре года прошли для тела не лучшим образом.
- Что бы ты сделал, если бы я написала тебе о своей боли? Все бросил бы еще раньше и примчался? Для чего? – она выгнула бровь, сделав короткую паузу. Только на вдох и выдох, чтобы впустить в легкие воздух. – Для того, чтобы вместо себя и Шарлотт заботиться и переживать о стареющей любовнице? Для чего тебе это, Уилкинс? Или я должна была написать, чтобы ты поставил протокольную галочку, что справился о здоровье своей спутницы?
Норе вдруг захотелось развернуться и уйти. Пошел он в Хель и дальше, если угодно. Может остаться и пойти за ней. Может хлопнуть дверью и уйти навсегда. Разум вкрадчиво подсказывал, что второй вариант был бы даже более предпочтительным, потому что разум всегда искал прямых и простых решений: если Людвиг Уилкинс уйдет раз и навсегда, все твои проблемы будут решены. Можешь хоть завтра собрать вещи и вернуться домой. Забыть Британию как страшный сон, в котором наконец появилась возможность пробуждения.
Но Нора не пошла у разума на поводу. Она осталась стоять, глядя Уилкинсу в глаза. Злость внутри нее все еще бурлила, но страх, поднявшийся из глубин ее существа вместе с легким приступом головной боли, сделал злость практически безадресной. Она осталась, чтобы дождаться ответа, потому что какой-то части ее, которая привыкла в присутствии Уилкинса доверять не только доводам рассудка, хотелось услышать его ответ. Хотелось понять, какого ответа он ждал и зачем.
Когда-то они могли не согласится или согласится не согласится, но не испытывали при этом непоборимую потребности доказывать свою правду до первого павшего в битве. Когда-то они вообще не ссорились, просто находили в друг друге отсутствие единого взгляда на вещи и, иногда с пригоршней добродушной пикировки, иногда с азартом, расширяли собственные границы взгляда на мир, людей, ситуации. Когда-то казалось, что мир каждого из них будет разрастаться и разрастаться за счет другого, и даже достигнув его границ, расширится еще больше удвоенным усилием их обоих.
Когда-то закончилось в декабре семьдесят четвертого.
В этой новой реальности шведские льды Мантеров не имели шанса сохранить свою целостность. Они ломались и разлетались громадными, несущими с собой погибель глыбами. Элеонора злилась, ярилась, буквально жгла одним только своим взглядом, и какая-то часть Людвига была даже готова поспорить, что окажись в руках женщины сейчас палочка, одним лишь взглядом оно бы не закончилось. С таким взглядом ломают и убивают. Такой взгляд у Элеоноры Коветт, скорее всего, был когда ее тогда еще муж взял в руки артефакт, чуть позже размазавший его по всему кабинету. И вот они тоже дошли до этой точки.
- Зависит от того, что именно бы ты написала, - фыркнул в разгневанное лицо женщины Людвиг. Идиотская коза, словно ей надо было по буквам прописать и по слогам произнести, что он испугался. Что хотел найти хоть что-то, что может рассеять страх, что в этой дурацкой опере он потерял еще и ее. Он просто хотел знать, что она жива. Что она все еще его. Со всем остальным можно было справится, все остальное имело решение, а вот мысль, что из его жизни вдруг могла исчезнуть и Элеонора от чего-то казалась совершенно не выносимой. Как-то совершенно по детскому глупо, но ему всего лишь требовалась пара слов, но слова так и не пришли и вместо страха постепенно проросло раздражение. Вымороженная тварь.
- И что, если бы примчался?! - склоняясь все ниже и ниже, выдохнул мужчина.
- Что такого в том, чтобы хотеть о тебе позаботится? - буквально проорал он в лицо Элеоноры.
- Потому, что ты значишь ничуть не меньше чем Шарлотт. И куда больше чем весь остальной мир, - продолжал бесновать Людвиг, не то обводя, не то отмахиваясь от того самого остального мира.
- И если тебе не нравится статус престарелой любовницы, это всегда можно исправить,- брызгая слюной и ядом, прорычал он.
- К хрену все, - гаркнул мужчина, срывая с пальца первое попавшееся кольцо и протягивая его Элеоноре, - можем хоть завтра играть свадьбу.

Громкий голос Людвига ворвался в хрупкую тишину ее мира, как грохот опрокинутых Лоскутиком кастрюль, и тут же забрался в те самые отдаленные уголки Нориной головы, где спряталась от зелий колдомедиков ее боль.
Приступ головной боли, накативший волной и слизнувший все тщательно культивируемое ею спокойствие, заставил Нору сделать полшага назад от Людвига – скорее инстинктивно, чем сознательно, руководствуясь примитивным, самым обыкновенным желанием оказаться подальше от источника шума, который причинял ей физическую боль.
В смысл слов, которые Уилкинс проорал ей в лицо, видимо, от страшного беспокойства за ее здоровье, Нора вдумалась с опозданием – с той самой неповоротливостью ума, к которой она пока отказывалась привыкать.
- А ты бы захотел?! – повышая голос, вопросом на вопрос ответила Нора, чувствуя, как звук собственного голоса звенит в голове. Проклятый Уилкинс! Она не хотела, не могла, не умела, не собиралась разбираться сегодня со всем, что случилось в Мунго и после него. Она вставала каждое утро с надеждой, что дракклов взрыв в опере в ее памяти наконец отодвинется в прошлое, к которому можно будет возвращаться лишь для того, чтобы повнимательнее рассмотреть ситуацию со стороны и сделать из нее необходимые выводы. Не то чтобы этот фокус выходил у нее до прихода Уилкинса. И не было ни малейшего шанса, что выйдет после.
Признания, которые все нормальные люди делали в спокойной и даже торжественной обстановке, с приличествующей сентиментальностью и необходимым антуражем, Людвиг фактически бросил ей в лицо, заставив Нору слегка скривиться от новой волны боли, к содержанию его отповеди не имевшей никакого отношения.
Нора машинально поднесла ладонь к виску, прикрыв глаза и массируя одной ей ведомую и нисколько боль не облегчающую точку указательным и средним пальцами. Она значит ничуть не меньше, чем Шарлотт? Куда больше, чем весь остальной мир? И если ей не нравится статус престарелой любовницы, это всегда можно исправить?
Ядовитые, брошенные в запале слова Уилкинса постепенно добирались до нее, придавливая ее неожиданной тяжестью. Нора резко открыла глаза и первым делом уткнулась взглядом в протянутое ей кольцо. То самое, что берегло Уилкинса от отравления и повсюду таскалось на левой руке.
- Ты что, рехнулся? – неожиданно спокойно даже для самой себя, осведомилась Нора.
Предложения руки и сердца, даже такие люди, как Уилкинс, даже соглашаясь повысить престарелую любовницу до престарелой жены, не делали таким образом. Свадьба, если Уилкинс вдруг об этом забыл или не знал, означала и последующую жизнь, и честную дележку добытого в неравном бою с судьбой жизненного опыта и шишек. Она и в двадцать бы не вышла замуж так, словно бросалась в омут. А теперь, когда голова раскалывалась, а мир вокруг путался с угрожающей скоростью, она даже была не готова рассмотреть это предложение всерьез. Более того, Нора даже готова была допустить, что и сам Уилкинс, когда остынет, пожалеет о том, что опрометчиво стянул с руки перстень, куда лучше служивший ему для распознавания отравы, чем для соблазнения женщин.
- А какого дремучего дракла не должен?! - красный как гриффиндорский флаг, Людвиг со всей мочи стукнул тростью по полу. Дебильная ослица. В удар, а через него и в пол ушла не только физическая сила, но и некая доля стекшей по пальцам и сгенерированной раздражением магии. От наконечника, постепенно стихая, разошлась волна никуда не приложенной силы, в образовавшейся на мгновение тишине тихо пискнул домовик Элеоноры, а чуть позже где-то тревожно звякнуло нечто предположительно стеклянное.
Плечи Людвига придавило внезапно вернувшейся усталостью. Злость ушла вместе с силами, мужчина стоял напротив хозяйки и неуклюже сутулился, дыша тяжко и обрывисто, как человек лишь едва едва вставший на ноги после тяжелой болезни, что в чем-то даже было ровно тем, кем он в данный момент являлся.
Горло драло от только что выкрикнутых слов и говорить еще совершенно не хотелось, по этому он просто стоял и смотрел, пытался вернуть себе способность дышать, а в месте с этим кислород и способность мыслить гудевшей словно совершенно пустой котел голове. В свободной руке он все еще сжимал, протягиваемое Элеоноре, кольцо.
- Возможно, - задышав более ровно, произнес Людвиг и почти тут же, распрямив плечи и расплывшись в почти добродушную усмешку, добавил, - но только самую малость.
Он снова потянул кольцо женщине, - Если ты, в этой своей мантеровски-коветтской голове, считаешь, что любовница это некто, о котором нельзя заботится и беспокоится, то давай это исправим. Придадим всему этому, - самодовольно скалясь, Людвиг обвел помещение рукой, - налет официальности.
Никогда до этого самого дня ему не приходило в голову, что в этом может быть проблема. Что все эти годы, пока он наслаждался обществом, ну и не только им, если совсем честно, Элеоноры, ей могло не хватать официальности. Он от чего-то пребывал в иллюзии, что ее это полностью устраивает, даже большее, когда-то весьма основательно обжегшись в браке с Максимиллианом Коветтом, она не желала никаких официальных, занесенных во все возможные анналы уз. Сам Людвиг, точно, к ним не стремился, не потому, что был принципиально против, а просто не видел такой необходимости. Брак был необходимостью при наличие(или лишь потенциале такого наличия) наследников, для структуризации и перераспределения материального имущества между супругами, для обеспечения легального допуска к целому ряду прав и возможностей, облегчающих сосуществование двух или более физических лиц образующих семью. Но им как будто ничего из этого не требовалось. Они жили отдельно и имели совершенно отдельный, более чем способный обеспечить их нужды, доход. Им просто было не чего делить на двоих. Кроме, как оказалось, этого. Эфемерного понятия заботы и беспокойства.
Людвиг чуть мотнул головой и вопросительно уставился на женщину. Выбирать, в конце концов, ей.

Что-то звякнуло и разбилось в глубине дома, приняв на себя магию, прокатившуюся по полу у них под подошвами. Лоскутик отчетливо ойкнул в наступившей в доме тишине. Нора моргнула.
Если Людвиг сам не понимал, какого дремучего драккла он не должен был спешить к ней сразу же из Мунго, ей, вероятно, было уже поздно объяснять. Хотя у самой Норы в голове не укладывалось, как он может не осознавать, в чем заключается самая большая и очевидная погрешность во всей его тираде. Его здесь даже не должно было быть, в конце концов. Он должен был быть если не в Мунго, то у себя дома.
Плохая новость заключалась в том, что, чем дольше они оставались в передней, превращая визит Уилкинса в какой-то странный, зависший во времени на перепутье момент, тем меньше Элеонора ориентировалась в происходящем. Хорошая новость состояла в том, что, завершив свой гневный спектакль ударом тростью по полу, Уилкинс, кажется, успокоился. И, судя по своей почти обычной усмешке, как-то протрезвел и почти пришел в норму.
Или нет.
Нора снова моргнула.
Нет, она никогда не считала брак непременным условием. И за Коветта вышла, скорее следуя неукоснительным семейным традициям и обыкновенным формальностям – в те времена молодые люди не могли себе позволить просто наслаждаться друг другом, да еще и оставаясь при этом гражданами разных стран. Это было осуждаемо и обсуждаемо, а потому – омерзительно для всех Мантеров, кроме, разве что, ее кузенов, тогда еще тайком мечтавших наслаждаться жизнью, не связывая себя брачными узами.
Умом они всегда понимали, что брак – это одно из условий игры и не более того. Это условие не менялось с течением времени, зато можно было поменять игру. Она примерно это и сделала, решив вопрос с Коветтом в свою пользу. И, разумеется, совершенно не собиралась замуж снова. В браке возникало слишком много никому не нужных обязательств, и одним из них была закостенелая социальная норма проводить друг с другом как можно больше времени, обитать под одной крышей и вести совместный быт. Если все это можно было делать, обойдясь без лишних формальностей, исключительно по собственному желанию и в исключительно обоюдно определенный промежуток времени, за эту возможность следовало хвататься обеими руками.
Но Уилкинс, видимо, услышал только то, что хотел. Или только то, что волновало его самого. Или только то, что он понял. Или только то, что… Других вариантов у Норы, откровенно говоря, и не было. Ей разве что на секунду показалось, что она сама не понимает, о чем весь этот разговор и что ей теперь делать с этим кольцом, которое Уилкинс так настойчиво ей предлагал, что от общей растерянности рука сама тянулась к странному дару.
- Налет официальности? – переспросила Нора. – А тебя в этом волнует только отсутствие официальности? Или ты считаешь, что только это может волновать меня?
Нора качнула головой, словно сама до конца не верила, что они ведут этот нелепый разговор, а затем развернулась на каблуках и пошла в глубь дома.
- Я не буду обсуждать это в передней, - обернувшись, сообщила она Уилкинсу.
На какой-то миг ему казалось, что Нора даже собирается взять кольцо, но ему видимо только казалось, кольцо так и осталось в его ладони. И убедившись в этом окончательно, Людвиг невозмутимо вернул то на палец. Он, кажется, даже не испытывал по этому поводу хоть каплю разочарования, настолько предсказуемым на самом деле ему казался такой исход. Быть может оно так же свидетельствовало о том, как мало оно значило и для него самого. Хотя почему быть может. Он не видел никакой сверхценности, святости и прочее, тому подобное в акте бракосочетания. Его предложение имело совершенно иную смысловую нагрузку, вот только она по всей видимости проходила мимо Элеоноры Коветт, а может и вовсе была ей совершенно безразлична, но что все же ее волновало, от него тоже ускользало.
- Я уже ничего не считаю, - совершенно не лукавя, признал мужчина и пожал плечами. Но так как еще существовала крохотная возможность, что быть может ему хотя бы что-то сегодня еще пояснят, то на следующую реплику хозяйки он лишь еще раз повел плечами и затем, слегка прихрамывая, последовал за женщиной в глубь дома.
Он шел именно за Элеонорой, а не вместе с ней, как оно было бы обычно, и это не только выдерживало между ними дистанцию, оно так же позволяло Людвигу за ней наблюдать. Не потому, что такова была его цель, а потому, что так получилось, а Нора не особо-то и спешила. Людвиг даже мог бы сказать, что медлила, вернее шла с какой-то ранее им не замеченной осторожностью и вдумчивостью, но быть может ему это только казалось, потому-что сам Людвиг просто был не способен двигаться со скоростью улитки, ему требовалось нестись. Вот только нестись тут было особо не куда и мужчина вкрадчиво вздохнул.
Оказавшись в столовой, а они шли именно туда, и обнаружив там стол накрытый на две персоны, Людвиг поинтересовался, - Этой твой домовик такой оптимист или ты ждешь к ужину кого-то еще?
Прояснив, что накрыто все же для него, Людвиг сел. Есть ему совершенно не хотелось, по этому от отказал суетящемуся вокруг стола домовику в главном блюде, но все же согласился на пару листиков салата, не столько во имя ценных витаминов, сколько для того, чтобы хоть чем-то себя занять, пока Нора будет расправляться со своим собственным блюдом.
- Нет, вино тоже не надо, - буркнул в сторону, снова захлопавшего своими огромными ушами рядом с его креслом, Лоскутика мужчина, - принеси мне лучше воды.
В его организме сегодня было столько всего намешано, что прибавлять к этому еще и алкоголь, было бы верхом безалаберности, плюс за редкими исключениями Людвиг не испытывал особой тяги к какой либо выпивке. Мог выпить, а мог просто смотреть как этим занимаются другие.
- Ну, - вдоволь наковыряв свой одинокий лист салата и даже сжевав один его угол, наконец оборвал тишину мужчина, - я готов тебя внимательно слушать.

Вещный мир всегда давал Норе успокоение. Не потому что она была как-то по-особенному привязана к окружавшим ее предметам, а потому что от окружающих ее вещей, привычных, тщательно подобранных и хорошо знакомых, ей сообщалось чувство упорядоченности и контроля над некоторой частью мира, находившейся в ее юрисдикции.
В светлой, просторной столовой думалось легче, и ее мысли даже пришли в некое подобие порядка. Лоскутик, разумеется, из природного гостеприимства и напрасной предусмотрительности накрыл стол на двоих, причем так, словно они собирались устраивать романтическое свидание, и, Нора была готова поклясться, страшно разочаровался, когда Уилкинс отказался от его кушаний в пользу салата, а от вина – в пользу воды. Она машинально подметила это, пытаясь определить, в чем было дело – в колдомедицинских зельях и настойках или в том, что дома Людвиг уже успел выпить и теперь хотел или пытался сохранить трезвость ума. Нора не стала отказываться ни от вина, ни от обеда. Она не была голодна, но ей хотелось заполучить себе небольшую фору во времени, как минимум для того, чтобы понаблюдать за Уилкинсом. И за самой собой. Он что, всерьез сделал ей предложение? Снятым с собственного пальца кольцом? Это было состояние аффекта после взрыва? Или решение, которое после всего, что случилось, просто всплыло на поверхность?
Вопросы всплывали в голове один за другим, а ответы на них все не появлялись, и Людвиг, вяло ковырявшийся в своей тарелке, нисколько не помогал ей понять, что нужно делать или говорить. Как вообще следует реагировать на такие предложения?.. «Ну» от Людвига не помогало тоже. Он ждал, что она будет говорить, но не для этого в ее распоряжении должен был быть некий запас слов.
- Тебе не кажется, - спокойно начала Нора, подыскивая слова на ходу, по мере того, как она извлекала мысли из головы, - что наличие официального статуса, каким бы щедрым ни было твое неожиданное предложение, - это наименьшая из всех проблем? Великодушно с твоей стороны заметить слово «любовница», проигнорировав «стареющая», но, я полагаю, в глубине души ты и без меня понимаешь, в чем в самом деле заключается проблема. У тебя есть Шарлотт и целая жизнь, чтобы о ней беспокоиться, как я уже говорила. Хочешь взвалить на себя еще и обязательства передо мной?
Коза!
Конечно вся ее способность говорить разбилась от эту самую необходимость говорить, и так, чтобы смысл сказанного был понятен не только ей самой, но ее номинальному собеседнику.
Элеонора встала и, крепко сжимая в кулаке трость, вскочил и Людвиг. За его спиной, не выдержав такой стремительности, с грохотом упало кресло. Рядом с ним, само собой, тут же возникло ушастое недоразумение Элеоноры.
- Оставь, где лежит, - рявкнул на домовика мужчина.
Формально эльф был совершенно не обязан его слушаться. Людвиг в этом доме был никем, чужеродным телом, могущим лишь раздражать хозяйку. По крайней мере, именно так Людвигу все сильнее и сильнее казалось. Да, ради бога, в конце концов. Они взрослые, ничем не связанные люди, могут разойтись. Просто, без жертв. Но почему тогда было так и не сказать?! Зачем весь этот фарс с молчанием пока он валялся в больнице или вот это вот сейчас?!
Эльф замер причудливой и несколько убогой статуей, позволяя Людвиг наклонится и вернуть кресло стоячее положение, а потом более чем церемонно придвинуть обратно к столу.
- И сгинь, уже, - почти добродушно, настолько несчастным был вид треклятого создания, фыркнул в сторону домовика мужчина.
Людвиг выпрямил плечи и обопревшись на трость, встал напротив Элеоноры.
- Если, если, если, - гулко рыкнул мужчина, - Если у этого дома сейчас рухнет крыша или Темза выйдет из берегов унесет его в море, тогда я и буду это решать. И точно так же как решу, что мне делать с твоей или моей старостью, немощью и что у тебя там еще было в списке.
- Испугаешься?! - насмешливо переспросил Людвиг, переставляя трость так, чтобы он мог упираться на нее обеими ладонями, - Не испугаешься, ибо ты боишься уже сейчас. Салазар знает чего, правда. То ли отношений, то ли жизни вообще, - пренебрежительно фыркнул мужчина.
- Допускаю, что все же второе, - его рука взметнулась и обвела помещение, - ибо это уже не дом, это склеп с наворотами. Уверен, твои предки были бы безмерно горды.

Ярость Уилкинса — настолько осязаемая, что ее можно было практически потрогать руками, — пульсировала между ними, покалывала кончики Нориных пальцев, будила в ней что-то тяжелое и неповоротливое, несколько дней назад, после взрыва в опере, уснувшее крепким сном. Она уже успела забыть это чувство: когда внутри разворачивалась, как туго скрученная пружина, и разбегалась по всему телу как хмель, упругая энергия. Теплая и живая, пробуждающая ото сна.
У нее в запасе было много слов, розгами бьющих по мужскому самолюбию. Что Уилкинс вообще мог знать о ее семье? О том, чего она боялась? О том, на что был похож ее дом и как к этому отнеслись бы ее предки? Что он знал о гордости чистокровных волшебников и о том, что они завещали помнить своим потомкам? Ровным счетом ничего. Все это было Уилкинсу совершенно не знакомо. И рассуждать об этом он мог разве что в угаре ссоры, отчего-то заранее уверенный в том, что он приучился за эти годы разбираться в ней лучше, чем она разбиралась в нем или в самой себе. Удивительная, восхитительная, наглая уверенность в себе.
Уилкинсу было настолько чуждо и нежеланно все, о чем он говорил, бросая слова ей в лицо, что вместо ярости — или вместе с ней — Нора испытала практически облегчение.
— Не откажи мне в других страхах тоже, — процедила она сквозь зубы, и вместе с ее злостью освободилась и ее собственная энергия, как всегда кипевшая в присутствии Уилкинса. — В страхе быть немощной, к примеру. Я думала, ты должен о нем помнить. Ты, провалявшийся в моем доме беспомощным, зависящим от других, понятия не имеющим о том, что происходит в мире за пределами твоих четырех стен… Уж тебе, из всех людей на земле, должно было быть известно, каково это – бояться, что ты так и останешься на попечении посторонних. Жалкий. Зависимый от их воли.
Чем больше она говорила, – буквально с каждым произнесенным ею словом – тем привычнее и увереннее звучал ее голос. Ей даже дышалось как будто бы свободнее, словно оковы, державшие голову, сковывавшие руку и ногу, неохотно размыкались, отступая под натиском энергии, которой у Уилкинса, как всегда, с лихвой хватило на двоих.
- Я боюсь этого. И к дромарогу этот дом, пусть он будет склепом. Но я в нем предпочту быть мертвой, а не прикованной к кровати. Не могущей пошевелиться. Сосредоточиться на письме. Книге. Разговоре. Зависящей от времени приема прописанного зелья. Чужих рук. Чужой магии. Я ненавижу это. Ненавижу эту слабость. Немощь старости. Бессилие. Беспомощность. Ненавижу. И боюсь. Если ты отряхиваешься и идешь дальше, я поздравляю тебя. И ты можешь поздравить себя тоже. Но я буду удивлена, если ты в мыслях не возвращаешься к этому. Я свой урок получила, видимо, слишком поздно. И не смей тыкать мне в мои страхи. Не смей упрекать в том, что я не хочу превратиться в овощ на твоем попечении, потому что овощи не нужны никому. В том числе и самим себе. Если ты считаешь, что это проблема, с которой можно будет справиться, когда она возникнет, я думаю иначе. Когда эта проблема возникнет, с ней будет поздно что бы то ни было делать. Она просто будет. Прямо у тебя под носом. Возможно, прямо в этом доме. Наряду со множеством других важных и наверняка куда более приятных и решаемых вопросов.
Он смотрел как почти незаметно, но тем не менее явно меняется осанка, а вместе с ней взгляд и черты лица Элеоноры, но думал почему-то совсем не о ней. Люди, люди, люди, молодые, старые, живущие впроголодь, купающиеся в достатке, законопослушные и нет, маглы, сквибы, волшебники, чистокровные и полукровки, опустившиеся или полные надежд, злые, смешливые, унылые, умные или лишь считающие себя такими. Самовлюбленные и робкие, смелые и трусливые, ученые и безграмотные. Он встречал на своем пути всяких. Он считал, что познал как подноготную, так эстаблишмент этого мира в достаточной мере, чтобы лично убедится, что люди что там, что там были скроены из того же материала. Истекали той же кровью, боялись тем же страхом и злились той же злостью. Кто-то при этом верил в свою избранность и исключительность, а кто-то наоборот в свою обыденность и незначительность, но кости у тех и других ломались тем же образом, кричали от боли они так же. А непреклонная гордость его деда-магла была так похожа на гордость чистокровной волшебницы, которая сейчас стояла напротив.
Людвиг чуть качнулся на подошвах сапогов и вернул ладонь на трость. Когда речь Элеоноры так предсказуемо свернула к событиям двадцатитрехлетней давности, его рот изогнулся в хищной усмешке, а рука неволей сильнее стиснула трость. Забыть то время он не мог при всем желании, каждый взгляд в собственное отражение, трость, которую он всегда таскал с собой, боль, слабость и судороги, сны от которых было практически невозможно избавится, всегда об этом напоминали. Вот только позволять этому определять то, как он будет жить, Людвиг отказывался. Отказывался тогда, не собирался и сейчас.
- Никто это не любит, - наконец, фыркнул мужчина, - вопрос только в том, что итоге управляет твоей жизнью, ты или твой страх.
Ему самому данный выбор дался легко, быть может и выбором толком никогда не был. Та ночь, много лет назад, вывела для него единственный возможный результат - ничто, а тем более никто не будет решать как ему жить. Или даже умирать. Но умирать он не собирался, ни тогда, ни сейчас. Каждое новое потрясение, каждая новая преграда были лишь дополнительным раздражителем, вызовом, подпыткой для жгущего нутро желания - Жить. Не существовать, спрятавшись и отгородившись от всех возможных и невозможных проблем, а кинутся в самую гущу, прожить и пережить каждый момент, каждое впечатление от и до, отряхнутся, выпрямится и искать новый вызов, новое впечатление, новый цвет, вкус и тональность, которую могла быть ему доступна и даже кое что из того, что доступно не было.
- Смею и буду, - припечатал Людвиг, - ровно потому, что знаю совсем не по чужому опыту, что кутаясь в страхах как в пелене, они никуда не денутся.
- Или это то, чего ты желаешь от остатка своей жизни? Боятся вздохнуть слишком глубоко, распахнуть окно, выйти на крыльцо или написать письмо? И бежать пока хватит сил в надежде, что когда-то и где-то твои страхи тебя не найдут?
- Я - сгорбившись так словно готовясь вот-вот на кого-то бросится, рыкнул Людвиг, -отказываюсь сбегать, как от своей, так и чужой немощности. И я отказываюсь отказываться от тебя, - добавил он почти благодушно, но от этого не менее упрямо.
Кольцо и брак он больше не предлагал. Было глупо ожидать, что не ответив пол часом ранее, Элеонора внезапно ответит сейчас, тем более, что у этих гребанных чистокровных на все случаи жизни, смерти и того что между полагались церемонии. Они верили в сакральное превосходство процедуры над содержанием. Ну, что же, быть может как нибудь, он разродится по этому поводу чем-то более приемлемым для гордой наследницы рода Мантеров, но сейчас тратить себя на подобные жесты он не желал. Он желал нечто совсем иное, но для исполнения - желание должно было быть обоюдным.
Людвиг выпрямился, даже чуть откинул голову, насмешливо и с легким вызовом разглядывая свою номинальную опонентку.

Много лет назад, когда Уилкинс был для нее лишь бездыханным телом на пороге ее дома, Нора даже подумать не могла, что все обернется таким образом. И не только потому, что представить собственный роман с чужим, уже почти упавшим в могилу телом было довольно проблематично. О романе, как и вообще о любых отношениях, выходящих за рамки деловых, тогда не шло и речи. Просто люди, оказавшиеся в том положении, в котором оказался тогда Уилкинс, не выбираются со дна – они тонут и увязают в иле. Поэтому, когда Уилкинс снова появился в ее жизни, после долгого перерыва, примерно таким же, каким он был сейчас, Нора удивилась.
Удивление, пожалуй, вообще было наиболее подходящим словом для того, чтобы описать гамму чувств, которую у нее вызывал Людвиг. Он сумел за все эти годы не превратиться в обыкновенную, удобную и в чем-то обоюдовыгодную рутину; он умел бросать вызов, когда это требовалось; держать удар, если в том была необходимость; он умел пробуждать удивление и интерес в ней; он умел держать удар и подниматься, даже если падать было очень больно. И именно эта способность Уилкинса – редкая и даже завидная – когда-то и свела их вместе.
Его жизнью страх в самом деле не управлял. По крайней мере, уже очень давно. Норе всегда это нравилось, хотя порой для нее такое бесстрашие граничило с безрассудством. Говоря об этом, Людвиг только фыркнул, лишь убеждая ее в том, что для него выбор между жизнью с вызовом и жизнью со страхом никогда не стоял всерьез. А вот у Норы не нашлось почему-то задора фыркнуть ему в ответ. Она бы и раньше не стала этого делать. Потому что и сама презирала тех, кто отдавал управление жизнью страху. В данном случае – саму себя. Но она все никак не могла объяснить этого Уилкинсу и уже даже не была уверена, что это стоит делать. В конце концов, боль, кажется, отступала, и разговор о немощи в самом деле можно было отодвинуть на некоторое неопределенное время. До какого-нибудь еще теракта, от которого ее или их обоих не смогут уберечь своевременные предупреждения Эйдана. Людвиг, к тому же, судя по всему, не собирался бежать не только от страха. И это, как она и говорила Эйдану несколько дней назад, существенно все осложняло и запутывало.
Нора помолчала, осмысливая «я отказываюсь отказываться от тебя». Умом она отлично понимала, что это значит. Во-первых, что у сложившейся ситуации нет и не будет простого решения. Во-вторых, что решение теперь обязательно нужно найти, желательно такое, которое устроит их обоих и не повредит Шарлотт. А сердце понимать эти слова отказывалось – они все крутились в голове, пока Нора пыталась найти им какое-то эмоциональное соответствие, но только для того, чтобы в конце концов прийти к выводу, что ничего подобного она никогда не слышала в свой адрес.
Она едва заметно улыбнулась и покачала головой. Упертый. Упрямый. Несносный. Невыносимый. Нора обогнула стол и подошла к Уилкинсу. Она была гораздо ниже ростом, и теперь, когда он выпрямился, а она как будто согнулась за эти несколько лет от накрывших ее событий, это было особенно очевидно. Нора взяла его ладонь в свою, не нежничая и ни к чему не приглашая, просто обозначая таким образом взаимопонимание и то, что она предпочла не облекать в слова.
- И что теперь мы будем с этим делать? – спросила Нора.
Вместо похода в магловскую оперу, стык января и февраля этого года они должны были провести по ту сторону земного шара. В Австралии, в Тасмании, в Новой Зеландии или куда еще их унесет дух приключений. Произошедшие в Рождество нападения с последующим закрытием границ и введением военного положения поставили на этом плане жирный крест. В Австралию, и не в качестве туриста, а на совсем, отправилась лишь его мама. Он сам погряз в делах, при том было даже трудно просчитать какие именно, те, которые он вел от имени Л.И Уилкинса, или те, которые требовали участия Оберона, занимали у него больше времени. «Призрак оперы» не мог стать заменой не случившейся поездки, он должен был стать передышкой в буднях, шуткой над их многолетними отношениями «старинных друзей семьи» и напоминанием, что повод для праздника можно найти даже в безрадостное время. А теперь он даже не мог сказать, была ли представление хоть мало мальски стоящим. Он его не помнил, это угнетало в чем-то куда сильнее, чем полученные травмы. Он был не способен мирится с этой пустотой там где полагалось быть целому, пусть даже в итоге кошмарному, вечеру.
Но зияющая дыра вместо лица женщины, с которой он должен был пойти в оперу, создало место для чего-то нового. Или совершенно не нового, но именно сейчас осознанного. Ему было с ней хорошо. Не всегда, где-то между девяносто пять и девяносто девять процентов времени, но было глупо мерить их отношения ровно по тем не хватающим порой процентам. Мир из которого вышла Элеонора Коветт был трудно сопоставим с миром из которого вышел он сам. Как показывали события последних лет, месяцев и недель, эти миры даже не желали быть сопоставимы, но на их стыке они вполне были способны найти место для своего собственного. И он хотел этот мир сохранить. Хотел быть может даже слишком сильно, но какой смысл был хотеть лишь в пол силы?!
Нора обогнула стол и подойдя взяла его ладонь в свою.
Он все еще злился на нее, но чувство было скорее остаточным, все более стихающим бурлением уходящей бури.
Если бы они, как и собирались, поехали бы в Австралию, они провели бы время куда более весело и интересно, чем сейчас. Они были бы здоровы, полны сил и впечатлений от дивных зверей и еще более дивных обычаев местных магов. Взрыв снес все наносное, всю мишуру их отношений, оставив лишь главное.
- Ну, - насмешливо протянул мужчина, чуть поглаживая женскую ладонь большим пальцем, - если мы поженимся в следующий месяц или два, то успеем втиснуть медовый месяц еще до окончания школьного года.
До этого им, конечно, придется разобраться с ее страхами и прочими последствиями травм их обоих. Придется наладить жить в этом все более и более недружелюбном мире, а помимо этого так же найти как во все это вписать Шарлотт и как вписать их самих в ее жизнь, но тут и сейчас требовалось отвоевать у мироздания нечто куда более неуловимое и зыбкое. Быть может право на счастье?!

Мало кто из перешагнувших полувековой рубеж мог позволить себе вступить в брак, руководствуясь одним лишь желанием это сделать. Почему-то считалось, что по мере приближения к старческой деменции человек освобождался от необходимости тщательно взвешивать принимаемые им решения и подвергать их критическому анализу, и мог позволить себе просто жить так, как хочется. «Тебе же уже все равно, что о тебе подумают», - заявил ей после единственного ужина с Уилкинсом ее младший племянник, искренне полагая, что этим он хоть сколько-нибудь логически объясняет теткины отношения с полукровным волшебником на десять лет младше нее.
Отношения с Уилкинсом, впрочем, лежали на тонкой грани между тем, что было рационально (постоянный любовник экономит много времени), и тем, что рационально не было (приблизительно все остальное). И принимать решение о дальнейшей судьбе этих отношений нужно было, продолжая балансировать между тем, что было разумно, и тем, чего ей просто, чисто гипотетически, могло хотеться, хоть и совершенно не было нужно.
Что вообще мог принести Норе законный брак? Уилкинс был полукровным волшебником сомнительной занятости и в первую очередь притащил бы в ее жизнь вполне естественные проблемы: во-первых, чистокровие, до некоторой степени защищавшее ее в дивном новом мире, с законным браком перестанет быть ее щитом и щитом для Уилкинса и его девочки; во-вторых, придется решать огромное количество бытовых и бюрократических вопросов, связанных с домом, девочкой и другими мелочами; в-третьих… Список потенциальных подводных камней был такой большой и так ловко выстраивался у Норы в голове, что заниматься этим, по-прежнему держа Уилкинса за руку, было по крайней мере глупо. Во всяком случае, среди несомненных преимуществ узаконенных отношений было то, что в случае необходимости у нее будет полное право увезти из Британии Шарлотт. И половина права распоряжаться ее жизнью в отсутствие трагических необходимостей.
Уилкинс, судя по всему, великодушно обо всем этом не думал или просто не говорил об этом вслух. Нора фыркнула. Как они вообще перешли от ее страха остаться немощной старухой на попечении других людей к планированию медового месяца, который непременно надлежало втиснуть в узкий промежуток до окончания учебного года? Куда делись ее тревога и раздражение? Вряд ли Уилкинс справлялся с этим лучше, чем зелья и огневиски, распитый несколько дней назад с Эйданом. Возможно, у всего этого был накопительный эффект. Дышать, по крайней мере, и в самом деле стало легче. И грядущие перспективы – какими бы они ни были – снова превратились в голове в задачи и требующие решения вопросы, а не в неразрешимую головоломку, которую измученное сознание перекладывало с полки на полку в надежде хоть где-нибудь отыскать ей место.
- Ты все-таки рехнулся, - беззлобно обронила Нора с коротким смешком. – И этому человеку я доверяю свою немощную старость!
- В куда меньшей степени, чем тебе кажется, - насмешливо изучая смягчившиеся черты лица Элеоноры, обронил Людвиг. И возможно в куда большей степени, чем мне кажется самому, добавил он мысленно, выпуская ее ладонь и позволяя своей очутится не женском бедре. Мужские пальцы скользнули дальше и опустились ниже, он потянул женщину ближе. И не переставал изучать ее лицо. Он помнил эту ее особенность еще по той давней встрече очень много лет назад, когда они отмечали безвременную кончину Уигмара Коветта. Было нужно совсем немного, самая малость, чтобы лицо Элеоноры Коветт потеряло столь привычную ей в обыденности холодную отрешенность, чтобы ее глаза перестали колоть и студить беспощадностью шведской зимы. Совсем немного, самая малость и можно было увидеть совсем иное. Вместо льдов во взгляде стелился мягкий, летний туман — обещание тепла и неги. Оно разило его тогда, оно продолжало обвораживать его сейчас. Чудо, доступное только ему, или так ему хотелось верить. Может зря, потому, что еще больше чем ему, поверить в это надо будет Шарлотт. Он надеялся, что оно возможно, и кажется, несколько опасался, что ему не получится соединить эти две, одинаково дорогие ему жизни, в одну. В семью. С другой стороны, кот же как-то вписался.
- Как человек не плохо зарабатывающий на составлении брачных договоров и еще больше на тех, кто когда-то решил обойтись и жить одной любовью до гроба, - обвивая женскую талию и второй рукой, в которой он все еще сжимал трость, насмешливо заявил Людвиг, - я должен строжайшим образом рекомендовать не полагаться исключительно на доверие. Возможно тебе даже придется найти другую юридическую контору для своего издательства, во избежании соблазнов, так сказать, - хмыкнул мужчина, - С другой стороны, я планирую ввести Феликса в ранг равноценного партнера и быть может его профессионализм имеет шанс сохранить нам такого ценного клиента.
Черт. Ему даже самому было трудно поверить, что разговор с Гейнсом о будущем фирмы тоже состоялся сегодня, не более чем пару часов назад. А еще пару часов до, он в беспомощной злобе изводил персонал из отдела травм Мунго. А теперь вот, еще и вляпался в брак.
Людвиг самодовольно осклабился. Жизнь требующая с него решения все новых и новых решений ему нравилась куда больше той, где приходилось соблюдать покой и пялится в безупречно белый потолок палаты.
Отредактировано Ludwig Wilkins (2021-01-05 22:25:51)

Людвиг Уилкинс умел быть разным, поэтому, даже привыкнув к нему, от него невозможно было устать. Полчаса назад она вообще не ждала, что он появится в ее доме; четверть часа назад была уверена в том, что Людвиг вот-вот развернется и уйдет; а сейчас он притягивал ее к себе и полушутливо предлагал планировать будущее, которое вдруг, каким-то непостижимым образом, сделалось у них общим. С Людвигом все было так быстро и настолько на широкую ногу, что Нора давно оставила попытки проникнуть в эти закономерности и механики разумом – ей просто нравилось, что в безукоризненно сбалансированном уравнении ее жизни Людвиг Уилкинс был изменчивой, перескакивающей с места на место переменной, благодаря которой уравнение все никак не заканчивалось, а обзаводилось все новыми и новыми функциональными свойствами.
В безумствах, совершенных в ее возрасте, некоторой своеобразной романтики было пока все еще больше, чем подбирающейся старческой деменции, поэтому и о предложении узаконить свои отношения Нора тоже могла позволить себе не думать. Еще некоторое время. А может быть, и вообще: ей только нужно было дать концептуальный ответ, потому что она нисколько не сомневалась, что, даже рехнувшись, Людвиг Уилкинс составил какой-нибудь план для своего сумасшествия. Тем более что сумасшествие подразумевало участие еще как минимум двух человек, трех домовых эльфов и, кажется, еще кота.
Уилкинс глядел на нее насмешливо, говорил шутливо, но притягивал к себе по-настоящему, и не только в самом обыкновенном, буквальном смысле слова. Норе, привыкшей во всем и во всех искать – и находить, если оно имелось, – второе дно, люди, подобные Уилкинсу, многослойные, но лишенные природной змеиной подлости, казались редкими, практически музейными экземплярами. Она со многим в нем могла бы поспорить (и спорила не раз) и не со всем смириться; многое находила невыносимым, а кое-что – даже опасным; что-то – слишком поверхностным, а что-то – чрезмерно, старомодно глубоким, но сумма всего этого оставалась неизменно очаровательной. Даже в те дни, когда казалось, что Уилкинс окончательно сошел с ума, перепутал с утра зелье, и хаос, который он обычно тщательно контролировал, выпуская в ее присутствии на свободу, отказался ему повиноваться.
Нора коротко фыркнула, скользнув ладонью по руке Уилкинса, выше, к его плечу. Кто бы сомневался, что мысль Людвига уже перескочила на вопросы все еще не очень серьезные, но уже весьма практичные. Означает ли это, что он решил избежать условностей до конца и не будет второй раз дарить ей даже собственное кольцо? Означает ли это, что она, хотя вообще никогда не цеплялась за брачные условности, все-таки хочет получить от него кольцо, хотя бы чтобы взглянуть на его выбор? Означает ли это, что она не говоря «да», все-таки сказала ему «да»?
За пару десятилетий, что они состояли в мимолетных отношениях, они пережили так много всего, что, пожалуй, этого хватило бы не на один брачный союз, а кое-что даже очень предусмотрительный человек не подумал бы включить в брачный контракт даже в раздел форс-мажоров. То, что они справились и выстояли, не вцепившись друг другу в глотки и не приняв волевое решение о расставании, судя по всему, следовало считать многообещающим, очень хорошим показателем. До сегодняшнего дня Норе казалось, что все дело в том, что они с Уилкинсом отлично понимали, где лежит граница для каждого из них, и, уважая друг друга, давно не подходили к ней вплотную. Теперь Норе вдруг пришло в голову, что все дело, возможно, было в ином – в том, что эта граница давно была фантомной, и на самом деле они стерли ее давным-давно, потому что на смену рациональному пониманию пределов друг друга пришло нечто другое. Очевидно, то, что удерживало их вместе и связывало куда крепче рациональных доводов.
- Не беспокойся, у меня есть некоторый опыт пребывания в официальных отношениях, - усмехнулась Элеонора. – И я отлично знаю, что следует делать с мужьями, которые перестали соответствовать моим представлениям о счастливой жизни, чтобы избежать бюрократических проволочек. Кроме того, раз уж ты собираешься сделать Феликса своим равноценным партнером, в случае чего у нас с ним не возникнет никаких проблем.
Она улыбнулась ему – насмешливо и с вызовом, но глаза ее остались серьезными. Не потому, что в глубине души Нора уже замышляла убийство, а потому, что за всеми их шутками пряталась страшная, повисшая в воздухе правда, о которой они оба, оказавшись здесь, в этой точке пространства и времени, предпочли забыть.
Вы здесь » Marauders: stay alive » Незавершенные отыгрыши » [21.02.1978] winter night