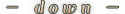Чарльз не торопится со словами, тщательно взвешивает их. Бен тоже не торопится, но, как предполагает его отец, по другим причинам. Бенедикта душат эмоции, он никогда не умел с ними справляться. Сдержать на время — возможно, но преодолеть и пережить — нет. А может быть, Бен этого просто не хотел. Может быть, ему нравилось накапливать их годами, упиваться своими чувствами, даже когда они причиняли ему страдания. Особенно в этом случае. Мелкий мазохист, дующийся на весь свет и нашедший себе удобный объект для выплёскивания детских обид.
Теперь новый натиск эмоционального шквала приходится выдерживать уже Чарльзу. Почему? Почему его сын такой? Ведь он не соврал, они правда похожи — но не во всём, далеко не во всём. Чарльз никогда не искал, кого обвинить в своих ошибках и несчастьях, на кого переложить ответственность за собственные недостатки. Он тоже любит мать, он уважал отца. Может быть, они воспитывали его не идеально — как умели. Но ведь даже воспитание, при всей его важности, — это ещё не всё, что составляет личность человека. Так где же внутренний стержень у Бена? Что в нём есть своего, кроме лохматого комка подросткового бунта и накопленных претензий?
Сын так вовремя отводит взгляд, как будто мог слышать этот внутренний монолог и устыдился. Но дело, конечно же, не в этом — не может же человек стыдиться того, что сам в себе лелеет, и, не исключено даже, чем гордится. Но короткий вопрос, который Чарльз протягивает Бену, как соломинку утопающему, всё-таки имеет эффект. Первый миг после красноречив: сын вскидывает взгляд, в котором на мгновение мелькает нечто похожее на изумлённое недоверие. Всё понятно: сейчас Бенедикт начнёт искать в его словах двойное или тройное дно, и непременно его найдёт, потому что сам придумает. Он в этом умелец.
Чарльз ждёт. Это выбор Бена, пусть проявит самостоятельность — заодно и покажет, чего он на самом деле хочет, из какого теста он слеплен. Проходит несколько долей секунды, и Бенедикт закрывается, вся его поза говорит об этом. Он не доверяет отцу, боится обжечься, не хочет, чтобы снова стало больно. Или просто идёт на поводу привычной манеры поведения, кутаясь в свой кокон твердолобого упрямства и выстраивая баррикады на линии защиты. Но Бен только что похоронил мать, и, вероятно, имеет право вести себя, как мальчишка. Ну, а Чарльз? Что делать ему? Что сейчас было бы правильно?
Первое, что приходит ему в голову, — это решить за сына. Если Бен не в состоянии принять верное решение и не хочет вылезать из своего уютного болота, надо взять его за шкирку и вытащить оттуда, и плевать, что спасибо он за это не скажет. Чарльз ни секунды не сомневается в том, что он вправе так поступить; пожалуй, даже должен.
Однако он медлит. Раньше в подобной ситуации могла вмешаться Дорея. Ей достаточно было подойти, коснуться его локтя и будто бы невзначай отвлечь его посторонним вопросом, или увести Бена, который срочно понадобился ей для крайне важного, только что придуманного дела. Зачастую её минутного вмешательства хватало для того, чтобы Чарльз успел остыть. Но теперь её не было рядом, и никто не мог остановить или сдержать ни одного из них. Значит, они должны научиться делать это сами. Бен, должно быть, ещё не успел этого осознать. Чарльз… пытался.
Ему хватило хладнокровия сообразить, что, если прежние схемы общения с сыном не работают, необходимо испытать новые. Для начала — хотя бы отказаться от старых. К примеру, не давить на него. Так?
— Ладно, — соглашается Чарльз, до которого внезапно доходит кое-что ещё: если просто оставить Бенедикта в покое, тот в свойственной ему манере наверняка решит, что отец был только рад дать ему пинка под зад, что он больше никому не нужен в родном доме, и далее по списку.
— Хотя я бы лучше выпил с тобой, чем с толпой сочувствующих дармоедов внизу, — Чарльз старается, никогда ещё так не старался, как сегодня. — Если хочешь побыть в её комнате, тебя никто не гонит.
Кажется, ты шёл туда, Бен.
Чарльз отступает на шаг в сторону, он теперь должен уйти. Он ещё не решил, куда, хотя выбор, по правде сказать, очевиден: там, внизу, какие-то люди, которых он видеть не хочет, у него нет сейчас сил, чтобы отвечать на слова соболезнования. Остаётся только кабинет и бар с огневиски. В конце концов, когда, если не сейчас.