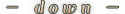Тугое, густое облако сигаретного дыма не смогло спрятать от Маши ни чуть удивлённый прищур Ивана, ни обронённую вскользь и беззлобно «чудачку». Забавно: как будто он ждал, что она возмутится, начнёт в чём-нибудь его упрекать в ответ, за отца, или вовсе выставит вон. Наверное, этого обычно ждут от тех, кто считается сиротой, - священного трепета перед памятью или образом отсутствующих родителей. Но очень сложно испытывать трепет перед тем, чего никогда не было. А ещё очень сложно чувствовать себя оскорблённой за мёртвых. Впрочем, и за живых, особенно таких, как Антонин, тоже сложно; живые с тем, чтобы быть оскорблёнными, обычно отлично справляются и сами.
С другой стороны, не Маше упрекать Ивана в каких-то ожиданиях. Он вот посчитал её сироткой и лгуньей, а она сама, помнится, ещё совсем недавно – и ошибочно – назначила его Иваном я-знаю-жизнь-потому-что-мой-нос-сломан-в-трёх-местах-и-я-игнорирую-то-что-это-произошло-потому-что-я-пропустил-три-удара-по-морде Костелецким. Если короче и проще, Иван поначалу показался ей линией, устремлённой в одну точку, - по-военному ясно и безапелляционно проведённой прямой, бескомпромиссной и жёсткой естественно и без умысла. Человеком одной-единственной, едкой, колкой и давным-давно выбранной интонации.
Лютный переулок, в котором все жизни были одинаково трудны, рано или поздно внушал впечатлительным новичкам, что все жизни были одинаковы в принципе. Ведь так считать гораздо проще и безопаснее, чем разбираться в чужих судьбах, на ходу размышляя, стоит ли принимать их близко к сердцу или лучше не подставлять своё сердце незнакомцам для удара. А может быть, сводить многоголосие к одной ноте, а хитросплетение линий – к одной, вытянутой в прямую, Маша привыкла ещё в Париже, невольно, как и все в парижской жандармерии, научившись этому от обаятельного соседа закона и порядка – парижского Двора чудес.
Никто не знал, получится ли оттуда выйти, но всякий волшебник в Париже знал, как попасть на этот grande cour. Тот самый, который магглы изжили из второго округа в восемнадцатом веке, а волшебники сберегли на прежнем месте: на углу рю Сен-Дени и рю Понсо, кафе «Чайное королевство» с потёртой вывеской и вечно пустующими столиками, спросить у продавца, на месте ли управляющий месье Гюго, и, получив утвердительный ответ, войти в указанную продавцом дверь. Et voilà, la Cour des Miracles. Добро пожаловать, mesdames et messieurs, в королевство последнего французского короля – Франциска XIV, принца нищих. Это он, Франциск XIV, быстроглазый статный волшебник неопределённого возраста с лукавой блуждающей улыбкой Джоконды, гордился тем, что «приучил жандармов к порядку».
Историю о встрече в 1972 году Франциска XIV с начальником парижской жандармерии, быкоподобным Габриэлем Рени, в Министерстве Магии передавали из уст в уста. «Вы приходите ко мне, месье», по слухам сказал Франциск XIV, «и знаете, что искать. Многие ли в Париже могут сделать вам такой подарок, а? Сквибы, шлюхи и сутенёры, торговцы зельями радости, эмигранты, карманники, оборотни, списанные жандармы, ветераны гриндевальдовской войны… Моё королевство проживёт дольше вашего, месье Рени, а? Потому что, в отличие от вашего, оно основано на строгом порядке». Говорят, что после этого Франциск XIV просто встал и ушёл, оставив Габриэля Рени в унизительном одиночестве за столиком «Чайного королевства».
На Дворе чудес в самом деле нельзя было быть одновременно торговцем зельем радости и списанным жандармом; или списанным жандармом и ветераном гриндевальдовской войны; или ветераном гриндевальдовской войны и карманником. Чтобы выжить на Дворе чудес, нужно было выбрать что-то одно и держаться за это всеми силами. Доказательством успешности такой стратегии выживания было то, что тех, кто исправно вписывался в классификацию, никогда не приводили на допрос в жандармерию, а ещё - то, что Двор чудес пережил королей, императоров и четыре республики.
Распространялось ли такое правило на Лютный переулок? Вряд ли. Скорее всего здесь просто удобнее было не задумываться друг о друге лишний раз – лучше всего выживалось здесь, в отсутствие одного общего для всех принца нищих, в небольших компаниях.
Вот только за выживанием было легко потерять маленькие, но ценные в нормальном общении приметы, отличающие каждого отдельно взятого человека от всех прочих людей на земле. Например, то, как на долю секунды из дыма выступил облик мальчика Вани с мечтой сына военного, внука военного, может, даже правнука военного. Маше обычно нравились эти простые детские мечты — они были ярче и честнее сложно вымудренных фантазий, которые в головы своих чад вкладывали амбициозные взрослые. Мечта стать аврором звенела мальчишеским голосом, который бросался в несуществующих врагов несуществующими заклинаниями; а мечта стать колдомедиком пахла какой-нибудь безобидной бабушкиной настойкой от головной боли и оставляла на нежной детской коже криво нарисованную сеточку или дурацкий рисунок йода. Такие мечты не нуждались в каких-то особенных «зачем» и «почему». Они просто были, потому что в детстве обычно не задаёшь себе лишних вопросов. В том числе и самого важного: получится у меня добиться того, чего я хочу, или нет? В детстве же ответ всегда «да».
В ответ на эту историю Маша только кивнула – коротко, но серьёзно, с благодарностью за откровенность, которой она, признаться, от Ивана и не ждала. Можно было бы сказать что-нибудь нейтральное, вроде «понятно», но что тут было «понятно»? Ничего. В её семье не было ни военных, ни детской мечты, поэтому понять ничего Маша не могла – только выслушать и отблагодарить за доверие, потому что пустые «понятно» раздражали её саму.
Спохватившись, она потянулась за пепельницей, запрятанной под разложенными на журнальном столике бумагами, но не успела – Иван уже отправил бычок за окно. Поэтому вместо того, чтобы просто быстро поставить пепельницу на подоконник заклинанием, Маша достала ещё и свою пачку сигарет и, держа в одной руке стакан с огневиски, а в другой – сигареты и пепельницу, тоже пошла к подоконнику.
В ответ на предположение Ивана о проблемах с законом она только улыбнулась и отрицательно покачала головой. История о том, что она забыла в Лютном, касалась не только её – ещё и Малпеппера. И почему-то Маше не хотелось кричать эту историю через гостиную, даже если гостиная была очень скромных размеров, - из уважения к Малпепперу и к тому, как сильно и очевидно он боялся потерять её, и как при этом (хотя никто из них на это не рассчитывал, когда она переезжала в Лондон) он начинал терять себя.
Маша тоже оперлась о подоконник, поставив стакан с огневиски поближе к себе, а пепельницу – между ними. Она начала с главного: в Лютный её пригласил Малпеппер, а потом скользнула ненадолго в прошлое. В то, где на последнем университетском курсе Шармбатона она, по совету своего преподавателя, списалась с Малпеппером, чтобы проконсультироваться у него по вопросу древних ядоносных артефактов. Деловая переписка со временем превратилась в дружескую, и кульминацией это дружбы стало витиеватое длинное письмо, в котором Малпеппер выражал соболезнования её двойной утрате – все близкие люди в один год! – и приглашал её переехать в Лондон в качестве ученицы и управляющей аптеки. В то время в этом предложении не было никакого подвоха: он уже давно был в коляске, но ум его был быстр и ясен.
- Я согласилась, - продолжила Маша, - потому что к тому времени основательно разочаровалась в своей работе. Я несколько лет работала в парижской жандармерии консультантом-зельеваром. Когда я шла на эту работу, мне казалось, что меня ждут запутанные преступления с ядами - идеальное применение полученных знаний, - она усмехнулась, посмеиваясь над собственной наивностью. - На деле, как вы догадываетесь, всё, естественно, оказалось ерундой. Передоз от наркотического зелья, отравление подделкой, несчастный случай. И на каждое такое дело, в котором зельевару всё очевидно с первого взгляда, – приблизительно миллион бумажек и форм. Всё, как французы любят. Хотя нет, один раз всё-таки было интересно. Когда нам привезли берсерков. Ну, то есть мы их так называли в лаборатории между собой. Пять человек, отравленных авторским зельем: сначала оно погружает в подобие боевого транса, а потом, за яростью, следует мучительная смерть от удушья. Их использовали, как потом оказалось, в качестве наёмников, не оставляющих следа, способного довести до заказчика. Но это исключительный случай. К счастью для мира, вероятно.
Маша не собиралась не то что рассказывать эту историю, но даже её вспоминать. Она всплывает в голове сама собой, и Маша прибавляет эту историю к другой, как будто это самое естественное, что можно сделать. Может, потому что Иван умеет слушать. А может, потому что пить огневиски на голодный желудок всё-таки не стоит, потому что он не только успокаивает нервы, но и развязывает язык.
- Как вы понимаете, в целом мне не очень жаль было расставаться с той работой. Да и с той жизнью, в общем-то, тоже - не люблю светскую чистокровную ерунду. А в Лютном... Здесь хорошая лаборатория. И чего только здесь не происходит, - с иронией добавила она и спросила после короткой паузы, доставая из пачки сигарету. - А вы как оказались в Лютном? Не отвечайте, если я лезу не в своё дело.