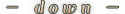О том, что мама угодила к ним в отделение с сердечным приступом, Роджер узнал еще накануне. Спасибо заботливым коллегам, которые предупредили из лучших побуждений и, очевидно, рассчитывали, что он тут же побежит ее навещать.
Ага. Десять раз. Он пока еще был в здравом уме, хотя за ближайшее будущее уже не поручился бы.
Заходить к маме Роджер совершенно не планировал. Целители у них в Мунго прекрасные. Большинство из них в разы опытнее и талантливее его. И все равно бы никто ему родную мать лечить не позволил.
Вот и прекрасно. Никакой необходимости прерывать затянувшееся с двадцать четвертого декабря молчание не было. Ничего хорошего они друг другу точно сказать не могли. Хуже того: учитывая то, как они расстались в последний раз, Роджер вполне мог стать виновником второго сердечного приступа, чего совсем не желал. Нет. Чем меньше контактов в ближайшие пару сотню лет между ними будет, тем лучше. А узнавать о ее состоянии он мог и без непосредственно взаимодействия с ней.
Решил он это все твердо и однозначно, совершенно не собираясь свое решение менять. Однако утро внесло в его планы просто чудовищные коррективы. В форме удара оттуда, откуда, как принято говорить, не ждали.
Статью о нападении в редакцию Роджер прочитал вдумчиво. Три раза. Чтобы не сомневаться в том, что все понял верно. Долго думать и гадать не стал, ибо это не имело смысла, вместо мысленной беготни по стенам наведался к Сандерсу, безо всякого чувства вины разбудил его после ночной смены и - о радость! о счастье! - получил вполне внятное и относительно обнадеживающее разъяснение. Зная приятеля, который, казалось, плохо воспринимал даже примерное значение слова "эмоции", не говоря уже о более глубоком и разностороннем его понимании, лжи из сострадания опасаться не стоило. И, тем не менее, расклад эти новые сведения существенно меняли.
Или нет. В общем, Роджер решил обдумать ситуацию ближе к концу смены, потому что пока это все находилось за пределами его влияния, что ты думай, что нет, а пациенты, напротив, зависели непосредственно от него. И все эти рассуждения ложились очень ровно, складно и логично. Вроде, ложились. Вот только по дороге в палату номер семнадцать из палаты номер одиннадцать Роджер каким-то немыслимым образом дошел до палаты номер девять, которая, мягко говоря, находилась совершенно ему не по пути.
Но срочно бежать в обратную сторону уже было как-то трусливо. После краткого диалога с дежурившими у двери хитами ("Там уже есть один целитель". - "Вы мне будете объяснять, сколько целителей нужно пациенту?") Роджер прошел внутрь, чтобы так "удачно" услышать окончание маминого вопроса про Кэтрин.
"Вот этого еще не хватало", - подумал он, коротко кивнув Алекто, и перевел все свое внимание на маму.
Выглядела она, как и полагалось человеку, пережившему круциатус, стресс и сердечный приступ, бледной и усталой, но оттого не менее решительной. Он бы даже, наверное, восхитился, если бы на ее месте сейчас находился кто-то другой. Не столь ему близкий.
- Мама, - произнес Роджер, пристально глядя на нее.
В этом слове и взгляде смешались осуждение, раздражение и тревога.
Вот же придумала: сердечный приступ в сорок пять лет. А все это ее желание спасти всех на свете, забыв и о себе, и собственных детях. Не лезла бы в острые темы - и никого бы она не заинтересовала. И не было бы никакого круциатуса. И сердечного приступа не было бы! Ну куда это годится? Хотя в сорок пять лет сердце можно было бы и покрепче иметь. Но, опять-таки, все - стрессы. И ради чего?! Риторический вопрос, на который мама бы наверняка прочитала ему длинную лекцию именно о том, что и ради чего она делает. Но лекцию Роджер слушать не хотел, как и читать в ответ свою, а потому ограничился одним словом и одним взглядом. Зато очень выразительными.