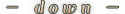Свою мать Аннетт, безусловно, любила. Или, по крайней мере, старалась любить так, как положено это было делать в кругах состоятельных, хорошо воспитанных и если не совсем аристократичных, то очень близких к ним: с обязательными поцелуями в воздух подле щеки при встречах, в меру сдержанном любопытстве о состоянии здоровья и, к примеру, реакции на погоду за окном. Привычки друг к другу в подобных отношениях было, предсказуемо, много, но не сказать, чтобы в них вовсе не водилось искренности. Просто за статусностью общества, из которого мать происходила, а дочь - стремилась попасть, со стороны сложно было отличать формальное от действительного.
Поэтому любовь Аннетт к матери оставалась чем-то само собой разумеющимся и не требующим большого внимания. Чем-то вроде родинок на коже.
Претензии к родительнице или разочарование ей ощущались, как правило, куда острее.
Розалинд, насколько её дочь знала, никогда не была глупа, но была до того наивна по молодости, что с возрастом и опытом превратила эту наивность в оружие, которым, скорее всего не совсем осознанно, но очень умело не гнушалась пользоваться даже в кругу семьи. На любое свое увлечение (впрочем, чаще всего весьма невинное), на любую дорогостоящую прихоть, будь коллекционирование сумочек из ишаки или вышивка зачарованным шелком, она так невинно хлопала ресницами, что всем остальным оставалось только разводить руками: “Это же Роз…”.
Что-то схожее вырвалось с тяжелым вздохом из Аннетт, когда мать прислала ей в Брайтонскую гостиницу светящуюся невинным оптимизмом записку, начинающуюся со строк: “Дорогая, просто восхитительно, что ты тоже в этом славном городе!”
Аннетт не находила город таким уж славным, присутствуя в нем по работе - последний раз в должности старшего инспектора - и больше мыслями обитая в деталях командировки, грядущем повышении и событиях ему предшествующих, чем среди тихой вне сезона, но все равно уютной курортной архитектуры и красивых, пусть и чуть тревожных ранней весной пляжах. На её руках еще горел след должностного преступления. Не кровь, конечно, скорее чернила, но чувство все равно было волнительным. Где-то между прикосновением к вседозволенности и все никак не покидавшей тревогой от возможного наказания. Хотелось скорее вернуться в Лондон и посмотреть в спокойное лицо мистера Нотта, чтобы убедиться, что все в порядке, а никак не тащиться на бал, который с таким восторгом расписывала, перечисляя списки возможных гостей и закусок, мать.
Аннетт читала все происходящее в своей семье между строк. Разумеется, Розалинд, засидевшаяся зимой дома, хотела светских развлечений, но отец, который предпочел светской вечеринке встречу с друзьями в карточном клубе, совершенно точно решил, что “+1” в приглашении жены должна стать засидевшаяся в девках дочь.
На отписку: “У меня нет подходящего наряда”, - мать прислала ей коробку со комментарием: “Мне такое все равно уже не по возрасту”. В коробке была действительно узковатая для солидной леди мантия и пошитое к ней в тон платье со спиной, открытой по самой кромке приличия. Тогда Аннетт поняла, что это, скорее всего, заговор, против которого у неё нет никаких шансов. Она была обречена пойти и самым простым способом переступить через собственное моральное сопротивление было убедить себя, что и ей это выгодно.
Мероприятие устраивал кто-то из местных аристократов в особняке на первой линии у моря. Большим размахом событие не обладало, скорее напоминая уютный праздник “для своих” разве что “своих” оказывалось на первый взгляд многовато. Танцы выглядели церемонно, на дармовой алкоголь и закуски никто не набрасывался, мать, ласково щебечущая со всеми подряд и нет-нет, но втягивающая Аннетт в разговор, периодически урывала моменты, чтобы обратить её внимание на холостых и овдовевших, и напомнить, что не стоит налегать на вредные для талии тарталетки со сливочным сыром. Когда она сбежала, удовлетворившись, очевидно, тем, что дочь второй танец уже проводит с неким французским предпринимателем, и сославшись на усталость, Аннетт почувствовала себя чуточку свободнее, несмотря на то, что её удерживали, прижимая к себе, крепкие мужские руки.
Кажется, его звали Луи.
На вкус Аннетт он немного перегибал с тактильностью и напористостью, но, вероятно, это сказывалась разница в менталитетах, разделенных Ла-Маншем. Это можно было простить и счесть скорее за лестное к себе внимание, чем за двусмысленные намеки, можно было невинно подтолкнуть к дальнейшим встречам и раскрутить из веером расходящегося в танце подола платья, великолепную историю, но, несмотря на все попытки к самоубеждению, легкая нервозность не отступала и все перекрашивалось в дурные, мрачноватые цвета. Аннетт буквально представляла, как через три-четыре свидания, она с этим французом раскопают биографии и родовые древа друг друга, чтобы найти в их стволах уродливые червоточины, как она будет пытаться заткнуть свои вопиющей нежностью, параллельно раздражаясь на недостатки потенциального супруга. К тому же ей не давал покоя свой переменчивый статус и мистер Нотт, прочно засевший в сознании вместе со своей благородной осанкой, происхождением, и новым по отношению к ней положением - не то начальника, не то покровителя.
Она отговорилась от француза желанием немного побыть одной и вышла на просторную балконную террасу. Летом здесь, вероятно, также устраивали мероприятия, но сейчас она лишь чуть подогревалась исходящим из основного здания теплом и прохладный, еще зимний ветер от воды приятно отрезвлял голову. Неожиданно, она оказалась здесь ни одна. Отступать и прятаться, случайно встретив коллегу, было поздно - не позволял этикет и пустота пространства. Никак не получилось бы отговориться, что Дэвисона она попросту не заметила, а долгое время, которое им, если верить слухам, предстояло провести под одной крышей, превратило бы текущую попытку избежать контакта в череду максимально неловких встреч.
Аннетт последовательно надела на себя несколько масок: радости узнавания, приятного удивления, искреннего радушия, - и расцвела в ласковой улыбке.
- Добрый вечер, Арчибальд. Удивлена Вас здесь встретить...