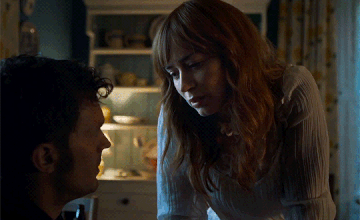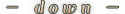[mar'5, 1978] память плохой наркоз
Сообщений 1 страница 25 из 25
Поделиться22021-04-09 01:52:32
Любой обман с Эндрю давался так легко, что даже самая безобидная ложь больше напоминала настоящее полновесное предательство. Он принял ее объяснение о ночном отсутствии – «стало слишком много работы, все сошли с ума после Оперы, ты же понимаешь» - одним коротким кивком головы, который выдавал в нем человека, исключавшего из своей жизни существование лжи, измены и подлости. Ему, счастливому человеку, и в голову не могло прийти, что женщина, с которой он прожил восемнадцать лет, казавшихся ему безоблачно благополучными, способна на предательство, на то, чтобы инсценировать свою смерть, на то, чтобы бросить своего ребенка.
Эндрю Каунтер ее совсем не знал, и с ним Анна никогда не была настоящей. Но, по крайней мере, она старалась для него быть такой, какой не могла быть для Долохова. Чуть лучше, чем на самом деле. Хотя бы за это – за возможность после всего, что она сделала, быть не худшей, а лучшей версией себя – Эндрю Каунтер заслуживал иного, чем Долохов, финала их отношений.
Был, кроме того, и еще один вопрос, на который Анна не могла себе ответить, вернувшись на следующий день домой после работы. А был ли это вообще финал? Когда ночное наваждение от их с Долоховым неуместных, запоздалых взаимных откровений спало, жизнь снова открылась перед Анной в своей привычной ясности и четкой структуре. В ее жизни, совершенно объективно, все было хорошо и без Долохова. Как доказывали восемнадцать лет, проведенные с Каунтером, любить кого-то для счастья было совершенно не обязательно – вполне достаточно было принимать чужую любовь. Каунтер, к тому же, был идеальным супругом для главы Отдела Тайн: магглорожденный, живущий в маггловском мире, он никому не мог выдать ее секретов, даже если допустить, что она с ними делилась. Места вроде Косого переулка наводили на Каунтера тоску, даже если раз в пару недель он терпел визиты туда в выходные ради нее. Каунтер не вызывал ни у кого никаких подозрений. Такой брак, разумеется, мог быть заключен исключительно по большой любви, и ни по какой другой причине.
Но Долохов… Долохов носил на руке этот проклятый знак. Мир, конечно, уже дважды покачнулся, выходя из привычного равновесия, и сложно было сказать, благом или наказанием будет эта метка на его руке в следующем месяце, через неделю и, тем более, через год, но легче от этого не становилось. В пятьдесят два пора уже понимать, что даже среди одинаково плохих вариантов все равно есть худший, лучший и оптимальный. Каунтер был оптимальным. Долохов – наихудшим из всех предложенных. Наихудшим в первую очередь потому, что понадобилась всего одна ночь, чтобы Анна начала к нему склоняться.
Анну пугало то, как быстро появление бывшего – все-таки бывшего! – мужа поставило все в жизни с ног на голову. Всякий раз, мысленно возвращаясь к тем обещаниям, которые они с Долоховым зачем-то друг другу дали, и к тем словам, которые они все равно друг другу сказали, несмотря на то что давно уже было поздно наверстывать упущенное, Анне приходилось напоминать себе, что она ничего о нем нынешнем не знает. Зато почему-то – это совершенно не помогает, Антон, - узнала много о нем из прошлого.
Все спуталось, и Анна решила дать себе время, чтобы поступить правильно.
Ей, нынешней, взрослой, было жаль того, молодого Антонина, которого она не смогла понять. Которого никто, по большому счету, не смог понять, включая него самого. Ей и себя ту, молодую, было жаль, хотя в этой жалости была и примесь раздражения. Как можно было быть такой дурой?
Чем старательнее Анна пыталась разложить озвученные ночью признания по полочкам, чтобы придать хотя бы прошлому некое подобие системы, тем чаще она обращалась в памяти к тому, как ощущались, спустя столько лет, прикосновения Долохова; как звучал, спустя столько лет, его голос; и как, спустя столько лет, отозвалось в ней самой то, что он говорил.
Как будто она ненадолго, пока была у Долохова в постели, снова стала самой собой. Это было странное чувство, сначала опустившее ее на самое дно их прежнего совместного существования, а потом вдруг освободившее от груза, который, оказывается, все это время лежал на плечах.
Это было странно. Все спуталось и, спутавшись, неожиданно привело Анну к порогу квартиры Антонина через два дня после той ночи. Два дня же достаточно, чтобы решить, как будет правильно? Как будто тебе восемнадцать, Анна Дмитриевна…
Анна постучала, решительно взявшись за дверной молоточек, но ответа не получила. Она подождала и постучала еще раз. Ответа снова не последовало. Серьезно? Долохов, серьезно?!
Прежде чем Анна успела возмутиться этому вслух, навершие дверного молоточка ожило и механическим, негромким голосом предложило оставить сообщение для хозяина.
Отчего-то Анне стало смешно. А если бы она сейчас в самом деле захотела к нему вернуться? Если бы сейчас она пришла с сообщением, что уже ушла от Каунтера? Если бы у нее были с собой вещи и окончательное намерение начать новую жизнь вместе? А Долохова, чтобы это сделать, не оказалось дома.
Отчасти, конечно, Анна могла объяснить это мерами предосторожности: они ведь не виделись столько лет, и Долохов тоже ничего о ней не знал, кроме того, что она теперь возглавляет департамент Министерства Магии. С каких пор ты научился настолько мне не доверять, Долохов? Неужели и правда повзрослел и поумнел?
- Какой попечительский совет отвлек тебя от нас на этот раз? – склонившись к артефакту, сказала Анна и, удостоверившись, что сообщение записано, постучала в дверь еще раз, на всякий случай прислушиваясь к тишине, царившей в квартире, а потом, хмыкнув, ушла.
О совместной жизни с тобой придется еще подумать, Долохов. Мне даже нравится, как с течением времени проясняются наши замутившиеся было мозги.
Поделиться32021-04-09 13:56:22
Все прошло слишком хорошо. Чисто с рациональной точки зрения. Можно было, конечно, миллионы раз утверждать, что по прошествии лет подобные ситуации решаются именно так, что им больше не по восемнадцать и не по двадцать, что после пятидесяти все происходит проще, быстрее, рациональнее — то есть так, как они всегда хотели.
Но это было слишком просто.
Грешным делом у него закралась мысль, что Анна неспроста появилась на горизонте. ДОМП искали Пожирателей как голодные гончие, Рождество и взрыв в опере их лишь подстегивали. Крауч, конечно, был далек от них, но очень уж стремился начать наступать на пятки. Может, они где-то прокололись? Где-то просочилась информация, что в Мунго работают Пожиратели? Но как тогда вышли на него, если вдруг его неожиданно ожившая жена появилась, чтобы его сдать?
Долохов хотел осмотреть квартиру: вдруг она могла что забрать, найти, было ли что-то, что могло указать на его настоящий род деятельности. Но тут же себя одернул и заставил остановиться, выдохнуть: в квартире не было ничего. Он все продумал уже давно, цепляться не за что. Каждый из них все продумал, если бы кого и поймали, то не из близкого круга: все-таки они достаточно пробыли в этом дерьме, чтобы попасться на чем-то настолько простом.
А вдруг он все-таки попался?
Антонин начал вспоминать все, что ей рассказывал: Метка, планирование операций, в Рождество дежурил в Мунго. Все касалось только его самого, на остальных это тени не бросало, что уже не могло не радовать.
Это была не паранойя, это была логика. Все было слишком хорошо и просто. Конечно, на самом деле ни черта не хорошо и не просто, особенно с эмоциональной точки зрения, но давно в его жизни не случалось таких совпадений. Еще и дочь недавно на горизонте появилась.
Уходить в отпуск на работе было глупо, пропадать — тоже. Работу отменить было точно нельзя, но не посещать какое-то время квартиру можно было. Он оставил банальные защитные чары — кто сейчас этого не делал — поставил простые сигнальные маячки, а также забрал с собой табличку от зачарованного дверного замка. Домой возвращался с помощью камина, потому что делал это всегда, а после аппарировал в другую квартиру.
Замок ему помог сделать Игорь: это была упрощенная версия гаргульи-охранника, которая была у них в доме в Париже. Если в квартиру хотел войти волшебник без допуска, он должен был заявить цель визита, которая отражалась на зачарованной табличке, а Антонин уже принимал решение, запускать человека или нет. Но обычно гости к нему не заходили, поэтому это была лишь мера предосторожности.
Буквально через два дня надпись на табличке появилась. Это произошло примерно за полчаса до комендантского часа, он уже был в другой квартире.
«Какой попечительский совет отвлек тебя от нас на этот раз?»
Долохов ухмыльнулся. Это точно была Аня. Но он остался сидеть на месте. Слишком просто. В принципе, она могла сказать что угодно, что обозначило бы ему ее приход, но это в любом случае не значило бы, что она одна. Тем не менее маячки не сработали, а это значит, что дальше двери никто не попытался пройти. У Антонина как раз были выходные, поэтому он выждал еще какое-то время прежде, чем возвращаться домой.
За те несколько дней пришлось переосмыслить многое. Например, во что он опять вляпался. Если раньше можно было винить родителей, которые устроили ему брак по расчету настолько рано, насколько это было возможно, то теперь винить можно было только одного себя. Сам увидел, сам нашел, сам переспал, сам признался, сам вывалил груз своих ошибок молодости. Все сам. Сложно сказать, стало ли легче или тяжелее, но что-то внутри точно сдвинулось. Но не сломалось или разорвалось, как это бывало раньше, и это было особенно непривычно.
Возможно, его предосторожность была лишней, но вообще мало что может быть лишним, когда тебя разыскивает отдел правопорядка Министерства Магии во главе с оголтелым Бартемиусом Краучем. И тем не менее вокруг было тихо. Неужели она и правда пришла сама?
Когда Анна постучала в дверь спустя еще пять дней, он замешкался на какое-то время, но решил, что лучше откроет ей. Уйти если что он всегда успеет, палочку держал наготове — не в первый раз в этом дерьме опять же.
Но палочка не понадобилась. И, судя по взгляду Ани, его ждала очередная тирада о том, какой он трус и никчемный муж, а не наряд авроров.
— И из всего ты решила вспомнить именно Попечительский совет? — он жестом пригласил ее в квартиру, на всякий случай аккуратно оглядываясь по сторонам.
Поделиться42021-04-10 09:44:29
Даже через пять дней, совершенно определенно получив ее сообщение, Долохов открыл дверь не сразу. Анна ничуть бы не удивилась, если бы выяснилось, что он стоял сейчас посреди своей передней, и судорожно размышлял о том, имеет ли смысл немедленно бежать прочь или все-таки стоит взять себя в руки и открыть своей бывшей жене дверь. И если все-таки бежать, то по какой именно причине – от жены или от потенциальной угрозы облавы.
Тридцать лет назад Анна не то что не стала бы ждать у его двери, но и вовсе не пришла бы второй раз. Есть все-таки у всего свой предел. И есть выбор, который нужно делать на месте и сразу, потому что он существует ограниченное время. Долохов свое время уже исчерпал, причем как раз тридцать лет назад.
Тем не менее, Анна терпеливо ждала, не без интереса прислушиваясь к звукам внутри квартиры. Теперь она понимала то, чего не понимала тридцать лет назад: в этой игре проигрывал тот, кто сбегал с поля боя первым. В первом раунде это была, во втором – это мог быть только Долохов. Ты тогда разочаруешь, конечно, Антон, но, по крайней мере, у этого разочарования будет какая-никакая моральная компенсация.
- А что я должна была вспомнить? – вскинула Анна бровь, проходя мимо него в квартиру. – Ты не настолько хорош в жизни в целом и в отдельных ее проявлениях, чтобы бормотать у твоей входной двери комплименты в дурацкий артефакт. Дверь сразу не закрывай, там Крауч еще поднимается, - не удержалась Анна, смерив его насмешливым взглядом, и вручила ему свой небольшой саквояж.
В передней на этот раз она останавливаться для трогательных супружеских объятий не стала, а сразу прошла в гостиную. В гостиной со времени ее последнего визита изменилось приблизительно ничего, и Анна подумала, что так, вероятно, Долоховым и было задумано: очень логично, если ты носишь на руке знак принадлежности к террористической компании, взрывающей вокзалы и поезда, предусмотреть возможность обыска или просто нежданных гостей. Очень нелогично вообще носить на руке знак такой принадлежности, но если бы все террористы руководствовались логикой, вероятно, они давно жили бы уже в совершенно другом государстве.
Анна села на диван, закинув ногу на ногу. Она пришла определенно не для того, чтобы снова просто изменять Каунтеру. Она пришла, откровенно говоря, сама не зная толком, зачем. Может быть, для того чтобы убедиться, что чувства, всколыхнувшиеся в ней – в них обоих – той ночью никуда не делись, не исчезли и не растворились в их уже привычных буднях. Может быть, для того чтобы поговорить о вещах куда более практических, чем прошлое, которое давно кануло в Лету.
По здравому размышлению Анна пришла к выводу, что любимую присказку Эндрю все же следует взять на вооружение: пусть прошлое остается в прошлом. Прекрасно лежать в одной кровати и высказывать друг другу всю боль, поднимая ее со дна души, куда она осела за ненадобностью и давностью лет, но на таких разговорах далеко не уедешь. Не они, как напомнил ей, сам того не зная, Каунтер, являются топливом для любой жизни, особенно – для совместной, а крошечные детальки, из которых складывается общая картина бытия.
Тридцать лет назад таких деталек у них толком и не было: в доме Долоховых весь их быт обслуживали домовики и слуга-сквиб; в Дурмстранге быта как такового тоже не было – были только две комнаты, одна из которых служила спальней, а другая – всеми остальными необходимыми для жизни помещениями, и трапезы в общей преподавательской столовой, о которых заботились опять же домовики. Конечно, Анна помнила кое-какие долоховские привычки – и милые, и невыносимые, и просто приемлемые, но сейчас это ни о чем ей уже не говорило. Сама она давно привыкла уживаться с другим человеком – восемнадцать лет с Эндрю Каунтером в три раза превосходили их брак с Долоховым, и это если считать исключительно по годам.
Анне нравилось думать, что она пришла для конструктивного обсуждения. Такого, в конце которого все остаются одетыми и на тех местах, которые они заняли в начале разговора. Это означало бы, во-первых, что они оба способны на диалог, и, во-вторых, что эту свою новую жизнь, которую они как будто бы оба хотят, они будут строить как взрослые люди, потому что можно позволить себе одну разрушительную влюбленность в восемнадцать, чтобы понять, каково это вообще, но катастрофически нельзя позволять себе такое после тридцати.
- Я пришла поговорить, - спокойно, деловым тоном сообщила Анна. – Одетыми и без лишних эмоций. Потому что я живу последнюю жизнь, Антон, если ты понимаешь, о чем я. И я не хочу по одной только прихоти – твоей или моей – пускать по ветру все, чего я добилась. Да и ты, я думаю, тоже, - ее взгляд нарочито скользнул к той руке Долохова, на которой он носил вещественное доказательство своей глупости. Стоило только умереть, Долохов, как ты снова не удержался и вляпался в неприятности.
Поделиться52021-04-10 17:50:35
Анна прошла в его квартиру, словно это уже был ее дом. Антонин, признаться, от этого немного опешил хотя бы с точки зрения, что это было странно и совершенно не в ее духе. Хотя и в ее тоже. А что было «в ее духе» сейчас? На какие вещи была способна эта новая Анна, которая уже 27 лет ни разу не Долохова и даже не Третьякова? Ну, как минимум врезать тебе по мозгам, когда ты этого не ждешь.
— Ты не знаешь, в чем я хорош, а в чем — нет, за исключением того, что точно было неплохо в твой последний визит, чтобы пытаться меня этим задеть, — сказал он больше куда-то в закрывающую дверь, потому что Анна уже прошла в гостиную и вручила свои вещи. Хорошо, запомним, что наглость твоя никуда не делась. Вообще никуда, Аня. Комментировать замечание про Крауча не стал, хотя защитные чары проверил. Да и палочку совсем далеко не убирал — уже проходили, спасибо.
Долохов покосился на саквояж: маленький, скорей всего чисто рабочий, но кто ее знает, может, на него наложено заклинание незримого расширения. От греха подальше оставил его у порога.
Анна вальяжно и словно действительно хозяйка положения уселась на диване, на котором совсем недавно он отходил от кромешного ужаса, а после разговаривал с ожившим призраком. И как так быстро он уже успел привыкнуть к тому, что она жива, из крови и плоти? Наверное, эту мысль он всячески отодвигал, потому что она была проста и на ней не стоило зацикливаться. Жива и жива. Но иногда в голове стучали совсем другие интонации. Все-таки с нею мертвой он жил практически половину своей жизни.
И вот она опять в его квартире. Уже третий раз за один месяц. Технически даже четвертый. Ушла быстро, еще быстрее вернулась. Может, лучше бы она была шпионкой ДОМП, а не его Аней? Со шпионкой он бы справился. Что с этой женщиной делать, Антонин мало представлял. Конечно, в сухом остатке он хотел ее в своей жизни оставить, но не ожидал, что все сложится так стремительно.
В свете их последней встречи и этого ее хозяйского отношения смотреть на ситуацию трезво было уже проще. В прошлый раз Долохов выговорил все прошлое, которое стоило выговорить уже давно, и оно для него словно закрылось. Ведь сколько бы он ни старался, ту часть жизни «до 1949» он тащил тяжким грузом, пусть и удачно запертым на множество замков от себя самого, но теперь его словно и вовсе не стало. Можно было начать действительно заново. Только вот что начинать и как? Что же, судя по тому, как она закинула ногу на ногу, по ее тону и вообще выражению лица — и это все еще в тебе никуда не делось, Аня — его жена имела какое-то представление.
— Вообще я думал предложить какое-то подобие ужина, я так понимаю, ты тоже после рабочего дня, но раз уж ты настроена настолько серьезно… — Антонин нарочито деловито сел в кресло напротив — она же так ясно выделила, что хочет поговорить и ничего более, что он даже решил предоставить ей максимум пространства. Ему было даже интересно посмотреть ей в глаза через несколько часов этого разговора, который еще имел шанс на конструктивность, но явно должен был закончиться не в гостиной или как минимум в другой диспозиции. Хотелось качать головой и приговаривать на манер его стареющего отца: «Ты уверена, что хочешь наступить на те же грабли?»
— А в этот раз ты знаешь, о чем хочешь поговорить, или как тогда накануне свадьбы придется все делать мне? Тогда можем сразу перейти к Непреложному Обету. Муж твой сможет быть свидетелем?
Антонин говорил максимально серьезно, насколько возможно, хотя про себя был готов уже сорваться на короткий смех. Не мог удержаться. Уж очень все это отдавало тем странным августом 1944 года, когда они еще только готовились к свадьбе. Когда Анна изъявила желание поговорить с ним, но в итоге так и не задала тему. Долохов даже вспомнил, как снисходительно он смотрел на нее и гадал, на каких таких романах классической литературы она выросла и с какими последствиями этого чтения ему предстоит бороться. Тогда один этот разговор заставил его посмотреть на Анну совершенно иначе. И за один тот разговор вся их схема грядущей жизни была растоптана в хлам, хотя они этого тогда толком так и не поняли.
Впервые за все время Долохов вообще не хотел никаких схем. Потому что эти отношения вообще ни разу еще не уложились ни в одну, а раз уж ему взбрело в голову за это зацепиться — да нахер оно тебе надо, Антонин, ты из ума выжил, поговори с Томом, он тебе мозги вправит на место — то надо было что-то менять. Поэтому он не дал ей как-то особенно живописно отреагировать на вопрос о муже и продолжил:
— Аня, второй раз это не сработает. Помнится, каждый раз, когда мы вели взрослый конструктивный диалог, получалось из него примерно нихуя, — он встал с кресла, протянул ей руку и поднял с дивана. Взмахом палочки снял с нее верхнюю одежду и отвесил у выхода. — Иди за мной, я, если честно, голоден, а с этим я хотя бы точно знаю, что делать.
Он провел ее в просторную кухню, которая одновременно служила и столовой: когда живешь один, нет смысла предаваться привычным изыскам чистокровной молодости. Обслуживать себя и свой быт сам Долохов научился тогда, когда окончательно съехал от родителей. Конечно, по старой памяти не хватало возможности просто крикнуть домовику и что-то потребовать, но Антонин считал, что даже чистокровный волшебник должен уметь жить самостоятельно.
— Предпочтения в еде не изменились? — проще всего было спросить что-то бытовое. Что-то, что он знал и не знал одновременно. Все-таки, в первую очередь, им попросту нужно было узнать друг друга заново, а потом уже вести беседы о том, что друг с другом делать.
Поделиться62021-04-10 20:57:00
Вот kozel. Анне еще в передней не понравилась настороженность, с которой Долохов пропустил мимо ушей ее замечание про Крауча, не став убирать волшебную палочку. Ей даже показалось, что он и в самом деле оглянулся по сторонам, прежде чем закрыть дверь. Над этим можно было, конечно, шутить и дальше, но, строго говоря, это было одной из тем разговора, с которым она пришла, и спускать всю повестку дня на нелепые перепалки ей не хотелось.
Повестка Антонина, к тому же, была явно другой. Он вспомнил, должно быть, ту чудесную встречу перед свадьбой, когда они чуть не дали друг другу Непреложный Обет, и зубоскалил на эту тему подозрительно щедро и свободно. Ах да, я забыла, что ты, должно быть, все уже про себя решил. Твоя карьера и жизненные идеалы, которые ты носишь на руке, будут опять превыше всего, а все, что скажу я — это так, дополнение к твоему плану, которое ты великодушно примешь в расчет? Так ты думаешь, Долохов, или все-таки вырос из этого?
Анна не стала перебивать и даже противиться его заклинанию тоже не стала. Снимал он, в конце концов, только мантию, и это было даже удобно. И куда менее неожиданно, чем Долохову, наверное, хотелось бы думать, но это всего лишь оборотная сторона владения ментальной магией — ты всегда немного в чужой голове, но не потому, что ты буквально в ней, а потому, что ты привыкаешь наблюдать за людьми куда более внимательно и пристально, чем большинство людей.
— В еде — нет, — проходя на долоховскую кухню, ответила Анна. Она заняла такое место за столом, чтобы ей удобно было наблюдать за непривычной и даже странной возней Антонина с ужином. Не сказать, чтобы он был не прав в том, что она с работы и, разумеется, голодна, но наблюдать за ним за приготовлением еды и сервировкой стола все равно было довольно странно — чувство было такое, словно оба ее мужа смешались, потому что готовил для нее только Каунтер, и Каунтер вписывался в этот процесс куда более органично.
Можно было возразить Антонину еще по пути на кухню, что «примерно нихуя» из их предыдущих взрослых конструктивных разговоров получилось потому, что они не были тогда ни взрослыми, ни конструктивными, но Анна решила не опускаться до спора о прошлом. Очевидно же, что тогда они были не более чем детьми, и представить себе не могли, что в самом деле ждет их в совместной жизни.
— Куда делось все твое парижское состояние? — спросила Анна вместо всех возражений, садясь поудобнее и снова закидывая ногу на ногу. Это был будничный, без издевки заданный вопрос, родившийся из обыкновенных наблюдений. Долохов, судя по всему, жил все-таки не бедно, и кое-какие бытовые заповеди обеспеченного чистокровного волшебника соблюдал по-прежнему истово, но в остальном его быт казался удивительно обычным. Если старшие Долоховы умерли, и Антонин не явился на их похороны, как он говорил недавно, следует ли это понимать так, что все семейное состояние он оставил дочери? Если да, то, вероятно, парижским домом сейчас распоряжается она. Забавно. Кто бы мог подумать, что из тебя может получиться вот это.
Анна достала волшебную палочку и одним взмахом открыла все кухонные шкафы, выискивая что-нибудь похожее на вино. Раньше вкус у Долохова все-таки был, и можно было надеяться отыскать что-то сносное к ужину. С поисками Анна справилась, не вставая с места, и заговорила только тогда, когда и бутылка, и, так и быть, два бокала оказались перед ней.
— И я знаю, о чем хочу поговорить, — невозмутимо продолжила Анна, разливая вино, — для начала я хочу, чтобы ты ответил мне на один простой вопрос, можно без лишних подробностей. Ты в самом деле подразумеваешь, что меня можно, как ты говорил, не отпустить, и держать при этом у входной двери, пока ты проверяешь, не явились ли со мной авроры? Как ты вообще живешь с этим своим знаком на руке, Долохов? Только без лишней лирики и выспренних слов. Меня интересует практическая сторона вопроса.
Его зубоскальство раздражало. Раздражало то, что Долохов, видимо, в своей голове все эти вопросы решил. Но Анна слишком давно и долго пряталась в последний раз, чтобы захотеть этого снова. Чтобы во второй раз сделать это своим сознательным выбором в жизни. Каунтер предлагал ей комфорт и заботу, а Долохов пока предлагал лишь то хорошее, что она о нем помнила или допридумывала за прошедшие годы. Тридцать лет назад Анна сделала бы выбор не задумываясь. А теперь… Впрочем, почему «бы»? Тридцать лет назад она и так сделала выбор. И пока, признаться, была не уверена до конца, что он был таким уж неправильным.
Поделиться72021-04-11 11:08:06
Антонин даже спиной чувствовал, о чем она думает. Не нужно быть мастером в ментальной магии, чтобы в принципе знать, что о нем думает Аня. Наверняка она смотрела на него, чуть вздернув бровями и с вызовом: «Ну что, Антон, ты как обычно все за нас придумал? Ты как обычно все решил, а меня просто известишь? Иди отсоси у кентавра, Антон, я хочу тоже принимать решения, а не следовать твоему карьерному росту, я не хочу терять то, чего я достигла! Ты опять ставишь себя выше нас, Антон!» Ему даже стало тошно, потому что он обернулся на нее и увидел в ее глазах как раз все то, что прокручивал в голове. Столько лет прошло, а мы все о том же. О том же, Аня. О том, какой я никчемный, зато ты заинька. Стерва, тьфу на тебя, знал же с самого начала, что буду тебя ненавидеть. И любить тоже. Бесит.
— Есть определенная накопленная часть в «Гринготтс», остальное уходило в Париж родителям, — он намеренно лишний раз не упоминал Марию, хотя и так было понятно, что наследницей должна была стать она. — Это была моя договоренность с отцом: я не участвую в их жизни, они не лезут в мою, главное исправно и в должной мере отправлять деньги. Дома в Париже и Каннах, я так полагаю, проданы, — конечно, он знал, что они проданы, особенно учитывая тот факт, что дочь переехала в Лондон, но решил продолжать не акцентировать на этом внимания. Ему ясно дали понять, что этот аспект их жизни лучше обходить стороной.
Пока Долохов разбирался с едой с помощью магии — не все же делать руками — на кухне резко открылись все шкафы. Конечно, реакция не позволила дверце влететь ему в лоб, но это был уже перебор.
— Я все понимаю, но ты хотя бы разрешения что ли спрашивай, — обернулся он на жену, которая решила проявить все свои бабские хозяйские наклонности. — Если твой муж это терпит, то я не буду, — и закрыл все ящики обратно.
Хотя, в целом, его преследовало снова легкое ощущение дежавю, только уже касательно дочери. Не так давно он присутствовал на похожем ужине, разве что разговоры были другие и, как даже казалось, намного более конструктивные.
У него было ощущение, что Анна как-то намеренно все упрощала, но в то же время делала все куда сложнее. А ему не хотелось относиться ко всему происходящему «сложно». Потому что они уже столько раз натыкались на то, что из этого «сложно» получалось непонятно что, может быть стоило вообще все на самотек пустить? Антонин не любил, когда ситуация принимала подобный оборот и всячески старался таких жизненных поворотов избегать, но опыт подсказывал, что попытаться все просчитать, выверить тактику поведения, наметить общую стратегию было попросту неправильно. Невозможно пытаться контролировать то, что изначально тебе не подконтрольно. Тогда он был еще юнцом, который наивно полагал, что чувства можно изобразить только в виде химической реакции, а любую реакцию можно контролировать каждым новым введенным химическим элементом. Химическая реакция — это тождественное уравнение, где можно равнозначно поменять коэффициенты и получить тот же результат, но с другой формулой.
Кто ж, блять, знал, что чувства чуть посложнее.
С очередным взмахом палочки и дежурным «приятного аппетита» ужин оказался на столе.
— Я не держал тебя у входной двери. Или ты думаешь, что я буду мчаться к тебе по первому стуку у порога? Да и о тебе теперешней не так уж и много знаю, это банальные меры предосторожности, — спокойно начал Антонин, делая первый глоток вина. — И ты задаешь неправильные вопросы. Просто живу. И уже давно, — пожал он плечами, словно говорил о чем-то обыденном. Хотя для Долохова это и было уже в какой-то мере обыденным, потому что настолько было частью жизни, что иного уже и не представлялось. — Если тебя интересует что-то конкретное — спрашивай, я постараюсь ответить.
Поделиться82021-04-11 15:25:22
Интересно.
Значит, девчонка закончила Шармбатон; Долохов не приехал на похороны своих родителей; видел ее три раза в жизни, как сам сказал пару недель назад; и теперь он полагает, что дома в Париже и Каннах проданы. Следует ли из этого, что от наследства он тоже отказался, по предварительной договоренности со своим отцом или просто по доброте душевной? Найти ответ на этот вопрос Анне казалось очень важным: от этого ответа, вероятно, зависело то, как будут строиться их отношения с Долоховым, потому что как бы ей ни хотелось представить себе, что никакого ребенка ему она не рожала, их с Антонином дочь уже почти двадцать восемь лет жила где-то на свете. И Анне всей душой хотелось, чтобы жила она подальше – не в Лондоне, не в Англии, не в Европе, не на этом континенте, не на этом земном шаре, не в этой вселенной. Подальше. Так далеко, чтобы можно было вычеркнуть ее из уравнения и жить так, словно ее и нет.
- Забавно. Твоему отцу, кажется, никогда не нужны были твои деньги, - без тени сарказма или желания поддеть, заметила Анна и пригубила вино. – Уж точно не на содержание одного-единственного ребенка. И что, ты все оставил ей, а она все продала? Ты пытаешься мне намекнуть таким образом, что в Париже она не живет?
Бесило, помимо всего прочего, что Долохов считал необходимым ходить вокруг да около. Как будто понимал, что она от ребенка уже давно отказалась, и просто выискивал случай продлить эту пытку неизвестностью: сначала со своей стерильной от воспоминаний и семейных уз квартирой, а потом этими мерзкими иносказаниями и «предположениями». Уж ты-то должен знать наверняка, где твой ребенок, Долохов. Хотя бы для того же, для чего это хочу знать я, - чтобы больше никогда с ней не встречаться.
Анна помнила, что Долохов сказал ей ночью две недели назад, слово в слово: «она смотрела на меня как ты, и я этого не выдержал». И это пугало ее больше, чем она готова была себе признаться. Долохов все-таки был не склонен к драматическим преувеличениям, и если он не смог смотреть в глаза дочери, потому что она была похожа на нее, значит, она в самом деле была похожа.
- Моему мужу нет нужды это терпеть, - усмехнулась Анна. Пока Долохов заканчивал с ужином, она не сказала больше ни слова и не притронулась к вину. Между ними было столько лет, что даже молча разглядывать его кухню было небезынтересно – женская рука здесь явно ничего не касалась, да и в шкафах все было устроено, как она успела заметить, не без тайного умысла открыв их все разом, все было устроено с мужской, с долоховской рациональностью. Если дочь – или любая другая женщина – здесь и бывала, то явно не жила и кухней не пользовалась. Наличие «любой другой женщины», впрочем, Анну как раз не беспокоило – Долохов достаточно ясно дал понять, что отношений, которые из спальни перебирались на кухню, у него не было. Да и быть не могло, если вдуматься.
- Нет, я так не думаю. Более того, я даже не хочу, чтобы ты мчался по первому стуку. Такая собачья преданность обязывает, и об этом мне кое-что известно. Я бы предпочла иметь свои ключи, к примеру. Потому что долго стоять у двери в городе, который стоит на ушах из-за оперы и живет от комендантского часа до комендантского часа, это попросту не очень разумно.
Анна тоже пригубила вино, почти с точностью и синхронно повторив его жест. Если ненадолго забыть о том, что они не виделись почти тридцать лет, можно представить, что это самый обыкновенный, нормальный ужин. И разговор у них, разумеется, как всегда, поражающий рациональным подходом. Он убивает людей за какие-то свои сомнительные ценности, которые держит в голове, а ты спрашиваешь про ключи и практические детали его быта. Каунтер сейчас рассказывал бы ей о своих студентах, которые слишком серьезно воспринимают Шодерло де Лакло, а потом, после ужина, зачитал бы ей самого Шодерло де Лакло.
- Просто живешь – на две квартиры? – проигнорировав его замечание о неправильных вопросах, продолжила Анна. – И эта, я полагаю, считается основной? Ты часто их меняешь? По старой привычке предпочитаешь во всем минимализм или просто научился прятать личные вещи? Здесь все готово к напрасному, безрезультатному обыску, не буду делать вид, что я не заметила. Но так не живут нормальные люди. Так существуют в ожидании лучшего мира, который может никогда не прийти. И кстати, об этом. Ты слишком держишься за свою палочку и здравый смысл для человека, который еще пару недель назад мог просто сдохнуть в Лютном переулке, попав в передрягу под ментальными чарами. Нам придется этим заняться, Антон, как бы ни повернулись наши отношения. Твоя голова – это открытая книга. И я не хочу, чтобы кто-нибудь прочел в ней главу обо мне. Она слишком длинная и красочная.
Поделиться92021-04-11 20:43:47
Долохов внимательно слушал. Говорила Анна много, поэтому предпочел выслушать ее до конца, больше не перебивая, чтобы знать, как грамотнее ответить. Конечно, она зацепилась за вопрос наследства, не могла не. Не была бы его женой, если бы не зацепилась. Возможно он даже хотел, чтобы она зацепилась. Было понятно, что она хотела бы ничего не знать о дочери и держать ее на максимально удаленном расстоянии — в какой-то степени как и он сам — но в таком случае нужно обладать максимумом информации, чтобы избежать случайной встречи. Он же не избежал, хотя мог бы, пусть тогда случайность и спасла его друга. Судя по общей реакции Анны на любую информацию о дочери, она бы точно не хотела случайно с ней пересечься в одном городе. Но Антонин пока не придумал, как среди общего вороха ее запросов лучше вставить краткую историю Марии, поэтому просто продолжил слушать.
Анна говорила непривычно много. Обычно они цедили слова по чайной ложке и даже в ту ночь две недели назад, как ему кажется, было сказано меньше, чем ею за последние пять минут. Больше всего его восхищало то, как она сама планировала свои дальнейшие передвижения и свою жизнь, в которой он играл явно немалую часть. А Антонин еще полагал, что придется как-то договариваться, бороться, спорить о том, что они продолжают движение вместе, раз уж судьба их свела заново. Конечно, Аня пыталась и договариваться, и бороться, и спорить, и пытаться доказать, что его заявления о том, что он ее не отпустит, ничего не значат, что она еще будет принимать решение, что ему еще нужно продемонстрировать серьезность своих намерений и еще много других «что».
Только вот она попросила личный ключ от его квартиры, оценила, что его квартира слишком безликая и слишком готовая для обыска, предложила потренировать защиту от ментальных чар, «как бы ни повернулись наши отношения».
Как бы ни повернулись отношения?! Ты потребовала личный ключ от моей квартиры, Аня! Серьезно, ты вообще внутри себя осознаешь, что ты говоришь? Обвиняешь меня в том, что я как обычно все за всех решил, но в итоге все решила ты! О Мерлин, я придержу это до вечера, найду лучший момент, чтобы тебе это вернуть, будь уверена. Добро пожаловать к кентаврам, Анна Дмитриевна, тут очень забавно.
Тем не менее пока жена говорила и задавала свои вопросы, он хотя бы успел доесть. Знал же, что потом шанса не будет, было ощущение, что эта женщина прибыла исключительно ради того, чтобы идти ва-банк. Подумал о саквояже, мысль о том, что там все ее вещи, все сильнее укреплялась в сознании. Долохов молча отставил тарелку, выпил вина и приготовился говорить.
— Живу только здесь. Вторая квартира исключительно резервная. Прятать нечего, хранить, кроме книг и артефактов, особенно много тоже. Письма и прочее не храню, больше ничего особо не имею: я много путешествовал и привык иметь прожиточный минимум, — Антонин говорил привычно жестко, коротко, чеканя фразы, не любил такие монологи. — Ты права, квартира довольно безликая, хоть и обладает определенными мелкими деталями быта, но, насколько я помню, ты умеешь быстро такие изъяны устранять, так что после переезда исправляй, как считаешь нужным. Допуск за барьер у тебя будет. С ментальными чарами соглашусь, это всегда было моей слабой стороной, и меня это тоже не устраивает.
Но монолог все же получился, поэтому он решил вывалить на нее все сразу. Раз уж Аня пришла разговаривать, то надо было использовать шанс и выложить весь возможный максимум, пока она была готова его воспринимать.
— Что касается дочери, расскажу один раз, и закроем эту тему, — Долохов сделал большой глоток вина, потому что действительно хотел поскорее с этим расправиться. — Да, бóльшая часть наследства и недвижимость достались ей. Отцом я ей быть не хотел, поэтому решил хотя бы обеспечить финансово — никто не жаловался. Она живет в Лондоне, знает мой домашний адрес из писем отца, собственно, она мне и сообщила о смерти родителей. Но в этой квартире она никогда не была и никогда не будет. Я случайно столкнулся с ней несколько недель назад в аптекарской лавке Мальпеллера. Внешне она, к сожалению, похожа на меня, глаза и взгляд — твои, вредность и упрямство — тоже твои. В аптеке живет и работает, практически подгребла ее под себя, занимается какими-то собственными научными разработками. Заносчивая стерва, но вроде умная. Не замужем и, мне кажется, никогда не будет. Меня как отца не воспринимает, о тебе имеет довольно идеализированное представление. Обстоятельств своего появления на свет не знает. Так что просто не заходи в лавку в Лютном и не порти жизнь ни себе, ни ей. Назвал ее Марией, — добавил он про имя в самом конце. Долго думал, стоит ли, ведь все-таки с именем она становилась каким-то полным портретом, полным и окончательным образом человека. Антонин не был уверен, что Ане это нужно, но видел, что ей нужна максимальная информация о дочери, чтобы хотя бы знать, к чему быть готовой. Он, например, не был готов в один прекрасный день выслушивать упреки о том, что она встретила «очень похожую на тебя девушку, не дочь ли, она меня узнала вообще-то», а он, такой засранец, не известил ее заранее, что они живут в одном городе.
— Что решила с мужем? — перевел он тут же тему. Он тоже имел право задавать вопросы.
Поделиться102021-04-12 09:52:18
Мария, значит. Мария Долохова. Ты даже имя ребенку выбрал убогое, Долохов. В любой другой русской эмигрантской семье девочка с именем Мария могла бы стать однажды элегантной Marie, но только не в семействе Долоховых, помешанном на русских корнях. Наверняка Марию дед и бабка звали козьим именем Маша или кукольным Машенька. Ты же не мог об этом не знать, Антон. Просто, разумеется, не догадался предусмотреть такой вариант развития событий и к статусу наполовину сироты, которую бросил отец, не справившись с необходимостью смотреть на плод своих ночных потуг, навесил на жизнь ребенка еще и нелепое имя. Почему не какая-нибудь Александра, например? Почему не какая-нибудь прабабка из семейной галереи?
И тем не менее, Мария Долохова, работающая в аптеке Мальпеллера в Лютном переулке, — это уже кое-что. Это личность, к тому же еще «заносчивая стерва» и «вроде умная». От Долохова это были практически комплименты, но вот ощущение, что где-то, все-таки, проклятье, в одном городе с ней, ходила по улицам, работала, жила и строила какие-то планы ее дочь, все равно было для Анны незнакомым и каким-то, прямо сказать, совсем непонятным. Что ей с этим делать?
Эта девочка, которая и девочкой-то давно не была и вообще вдруг стала Марией, приходила к ней в ночных кошмарах. И в этих снах она тоже была похожа – и тоже, к сожалению, какое совпадение – на Долохова. У нее были его темные волосы, его массивные черты лица, его насмешливые, грубоватые повадки. На Долохова наяву Мария смотрела ее глазами, а на нее саму во сне – всегда глазами Долохова. Она не укоряла, ничего не говорила, просто шла за ней в этих снах повсюду молчаливой тенью, такой, что стоит обернуться, и всегда утыкаешься в ее взгляд. Анна боялась этих снов. И еще больше – девочки, девочки, а теперь уже молодой женщины, которую она в них видела.
Анна боялась, что Мария окажется любящей и любимой дочерью, потому что она сама с этим не справилась; или что Мария будет другом, радостью, поддержкой для Долохова – его утешением в отсутствие жены, утешением, которое Анна могла и должна была возложить на себя, но предпочла закопать в землю в пустом гробу; боялась, что Мария повторит ее судьбу и окажется нелюбимой женой, но только – нелюбимой до конца, что она испытает те же боль и разочарование, что испытала сама Анна, но не найдет из них иного выхода, кроме как просто продолжать существовать до самой смерти; с содроганием думала о том, что у Марии могут быть такие же нежеланные, как она сама, дети, и тогда это будет означать, что она, Анна, породила целую цепь несчастливых, обреченных на существование жизней. Но еще больше Анну пугало не это. Больше всего на свете она боялась, что Мария окажется другой: что у нее вдруг обнаружится муж, который носит ее на руках, и дети, в которых Мария души не чает. Что она, телесное воплощение их с Долоховым неумелой любви, разрушительной ненависти и неуверенности друг в друге, вдруг станет счастливой всему этому вопреки – счастливее их обоих, и превзойдет собственную мать, даже того не зная, оказавшись не то удачливее, не то мудрее.
Но этот главный страх, кажется, не оправдался: не замужем и, мне кажется, никогда не будет. Значит, Мария выбрала путь, который для никто не загадывал. Это вызывало в Анне странное чувство, даже немного похожее на любопытство. Еще и аптеку почти прибрала к своим рукам. Кто ты вообще, Мария Долохова? Какой ты выросла? Зачем?
Анна одернула себя, вернув в реальность, пока ее любопытство не перешло за опасную грань. Возможно, у Марии вообще была самая лучшая версия Анны Дмитриевны Третьяковой на свете – погибшая в родах мать, свекор со свекровью обещали ей (хотя эти обещания Анне были не нужны) говорить дочери о ней только хорошее. Очевидно, это обещание они сдержали. А разрушительницей чужих жизней Анна не была. У нее не было ребенка. А у ее ребенка не было матери. И пусть так и будет. Не любить Марию Долохову, как Анна поняла с годами, вовсе не означало непременно желать ей зла.
- Ты торопишься с переездом, - спокойно заметила Анна, беря столовые приборы. Долохов не стеснялся есть, пока она говорила, и Анна, с одной стороны, не хотела демонстрировать отсутствие интереса к ужину, а с другой стороны, кажется, и вправду была немного голодна. По крайней мере, процесс поглощения пищи оставлял место для необходимых пауз. – Четыре визита в месяц будет достаточно для начала.
Скажи спасибо, Долохов, что мое расписание не привязано к летним каникулам.
- Но ключ мне все равно нужен. Заодно и допуск за барьер бы не помешал. Для занятий ментальной магией выберем другое место. Я подумаю, какое, и сообщу. Ни эта квартира, ни вторая для такого не годится – здесь ты будешь спокойнее, чем в незнакомом месте, и это не та фора, которую ты хочешь получить, поверь.
Анна снова пригубила вино и отрезала небольшой кусок мяса. Готовил Долохов, следовало признать, весьма сносно и даже не дурно, пусть и без изысков рецепта и сервировки, которую уважал и даже любил Каунтер. Вот и первая привычка, которая сформировалась в твое отсутствие в моей жизни, Антон. И что ты с ней будешь делать?..
- Я учту, благодарю, - сухо кивнула Анна в ответ на рассказ о дочери. Она могла бы рассказать Долохову, что это был ее главный страх. Могла бы даже рассказать про то, что когда-то, когда ее коллеги притащили в департамент боггарта, достающего особенно интересные глубинные страхи, она выяснила, что ее ребенок от Долохова был ее самым главным, самым потаенным страхом. Но не стала. Для того, чтобы Мария появилась на свет, Долохов в буквальном смысле вывернул ее наизнанку. Хоть что-то об этом ребенке должно было остаться ее собственностью.
- С мужем – ничего, - Анна слегка пожала плечами. – Во-первых, мне нужно было сначала поговорить с тобой. Во-вторых, восемнадцать прожитых вместе лет вычеркнуть из жизни не так просто. Куда сложнее, чем шесть.
Ты же хотел честности, правда, Антон? Вот она. Восемнадцать лет – это трижды наш брак только в количественном смысле. И примерно миллион наших браков в смысле качества. От этого я поберегу твое самолюбие, так и быть. К тому же, оно не имеет смысла – я же все равно здесь. И мы оба знаем, что рано или поздно я останусь.
Поделиться112021-04-12 16:38:37
Бесишь. Как. Же. Ты. Меня. Бесишь. Последний раз Антонин чувствовал похожий и резкий всплеск эмоций, когда еще был преподавателем и когда отправился с одним из своих учеников в плавание в Норвежском море. Он еще тогда хотел его за борт выкинуть. Вот ее бы тоже за борт куда-нибудь. Утопить, приложить всей этой ее вредностью, решительностью, тем, как сухо она реагировала на все, что он говорил, черт побери, Аня, ты не могла сделать милость и умереть до конца?!
Она, казалось бы, спокойно отреагировала на его новости о дочери, но что-то подсказывало, что все не так просто. Конечно, она наверняка ничего не могла чувствовать к ребенку, зачатому в такой боли и даже заставившему ее перечеркнуть всю свою жизнь, но даже решение «не чувствовать» уже было чем-то, что нельзя просто так в себе закрыть. Что-то должно было быть. Интерес, может быть, даже страх. Однако Долохову было не так уж и интересно узнавать и расспрашивать: это было исключительно ее дело, и он, наверное, даже не имел права вмешиваться. В принципе, он не имел права с того самого момента, как пригрозил ей, что заткнет ее, если она не замолчит сама, после чего услышал тихий стон боли, который до сих пор никак не мог забыть. Удивительно, сколько раз он пытал кого-либо, причинял боль, но помнил всего один только тот звук.
Но поведение жены достаточно быстро вернуло его в реальность. В какой-то мере он почувствовал ответный удар за все те годы, что он ставил ее в подобное положение. И даже прочувствовал, что примерно так же сидел рядом с дочерью и ставил такие же условия. Но одно дело — дочь, которую ты не знаешь и которой предлагаешь искупление долга, другое — жена, бывшая, нынешняя, не так важно, которая делала это исключительно из желания продемонстрировать свое превосходство.
Чтоб тебя все кентавры задрали, Аня, почему же мы с тобой так похожи. Как так вышло, что из всех магических чистокровных семей Парижа, мой отец выбрал именно тебя? Знал ли он, на что меня подписывает? Предполагал вообще, что в попытках найти кого-то, кто меня изменит, сделает мягче, «нормальнее», ты найдешь девушку, которая будет практически моей копией, разве что без склонностей к темной магии? Как ты это сделал, отец? И я ведь в итоге люблю ее, даже после ее выходки со смертью, даже после стольких лет, даже несмотря на то как она заявилась ко мне домой и смеет так себя вести. Даже после того как говорит, что я тороплюсь с переездом, хотя сама между строк намекает, что она уже практически здесь живет. Роман Алексеевич, ну как ты так умудрился?
В какой-то степени Долохов как будто бы даже понял, что она делает. Возвращает ему Дурмстранг. Возвращает ему Швецию. Возвращает некромантию и всю темную магию. Возвращает его заявления о том, что он не отступится от себя ради нее. Туше, Анна Дмитриевна, принято.
— А я смотрю, ты очень легко вжилась в роль того, кто принимает решения. Насколько я помню, мы договорились в этот раз обсуждать, а не выносить ультиматумы, — для верности и подтверждения того, что он собирается пока что продолжать говорить, убрал магией пустые тарелки и снова наполнил бокалы. — Пока что ты объявила, что не останешься, но тебе нужны ключи. Плюс ты собираешься продолжать копаться в моей голове, а я хочу знать, кому я должен буду довериться. Я понимаю, что ты делаешь и что ты уже вошла во вкус, но определись.
Мерлин, как же эта женщина умудряется неистово бесить и привлекать к себе одновременно настолько, что у меня сейчас будет нервный тик. Поговорить она должна была. Поговорила? Проходим в следующий этап, или что там дальше у тебя в планах? Четырех визитов в месяц достаточно. Недостаточно, Аняблять! Ты же уже приняла решение за нас обоих, за чем же дело стало.
— И смотря какие это восемнадцать лет, — решил он добавить. — И смотря какие шесть.
Поделиться122021-04-12 19:19:33
Легко вжилась и правда. Потому что ничего сложного в том, чтобы принимать решения за двоих на самом деле нет, Долохов. Сложно нести ответственность за принятые за двоих решения, но вот об этом ты как раз не имеешь ни малейшего понятия, потому что из нас двоих ты всегда был везунчиком, избавленным от последствий почти всех своих решений. Кроме, пожалуй, одного — изнасиловать свою жену. Но тут уж простите, так сложилось.
Удар достиг цели, но удовлетворения это Анне не принесло. Впрочем, она и не искала удовлетворения, скорее просто хотела разметить границы. И, пожалуй, еще проверить, способен ли Долохов вообще, в принципе, осознать, в чем заключалась погрешность в их предыдущей попытке быть вместе счастливыми. Долохов, кажется, понимал. Он взбесился и даже как будто обиделся как-то очень знакомо и очень по-детски. Анна удержала непрошенную и неуместную улыбку, спрятав ее во вновь наполненном Антонином бокале с вином.
— Ты уже предлагал мне обустраивать быт после переезда, — напомнила она. — И наверняка думаешь, что на мой саквояж наложено заклинание незримого расширения, чтобы туда можно было положить все мои вещи. Но так переезды не обставляются, даже если допустить, что я совершенно свободна и мы оба к этому готовы. У меня библиотека, мои артефакты, мой рабочий стол. Тебе, может, не нравится эта мысль, но факт остается фактом — я не скрывалась эти восемнадцать лет, я жила и обрастала вещами, которые странно было бы переносить даже в саквояже с незримым расширением.
Тридцать лет назад Анна бы его добила. С Долоховым хлесткие слова просились на язык сами собой, их никогда не нужно было ни искать, ни как-то специально подбирать. Он просто был естественно невыносимым — таким, что его отцу хотелось сечь его розгами при будущей жене, а жене однажды захотелось сбежать, не вынеся семейного счастья. Теперь обидные слова Анна оставила при себе — нынешний Долохов их ничем не заслужил. Он честно, по-своему, пытался продумать их жизнь и просто подкупающе сильно хотел, чтобы она осталась. Такого рвения Анна не замечала за ним в молодости, но, наверное, не потому, что его не было. Очень даже возможно, потому, что тогда она не умела подмечать такие вещи.
— Давай так, — подавшись вперед, Анна накрыла ладонь Долохова своей, — тебя устроит, если я скажу, что из-за шести лет с тобой я готова отказаться от восемнадцати с Каунтером? Просто это не разумно делать сразу. Ты можешь не отвечать мне, но ответь хотя бы себе: ты готов просыпаться со мной каждое утро? Делить со мной ванную, кухню, сборы на работу. Возвращаться уставшим из Мунго или откуда бы то ни было еще, — чтобы не слишком усложнять уравнение его вестником смерти на руке, — и думать, дома ли я или авроры все-таки устроили обыск и нашли то, что ты никак не сможешь спрятать — второго человека в твоем доме? Сейчас ты бесишься от того, что я говорю, но, возможно, это кажется тебе очаровательным, потому что ты от меня отвык, а я отвыкла от тебя. Но это пройдет, Антон. Это обязательно пройдет, поверь мне.
Все-таки восемнадцать лет совместной жизни, счастливой, но пресной, дают опыт, который не дает шестилетний, заключенный по договоренности родителей, брак. Восемнадцать лет сосуществования с другим человеком — это забег на очень большую дистанцию. Это целый марафон, который они с Каунтером прошли более чем достойно. У Долохова такого опыта не было. Зато был опыт одиночества — одиноких путешествий по работе, одинокого бытия преподавателем, одинокой же жизни в Лондоне. Анне не хотелось стать для него резко невыносимой. Не хотелось, чтобы невыносимым для нее стал он. Ей хотелось в этот раз выбрать Антонина Долохова правильно — так, чтобы провести с ним всю оставшуюся жизнь, а не разбежаться, ненавидя друг друга с новыми силами, через несколько месяцев. Потому что мир, по большому счету, ужасно маленький. И бежать от него и от себя можно только до определенной границы, за которой, конечно, ничего их уже не ждет.
— Ты даже до конца мне не доверяешь, — мягко сказала Анна и чуть сжала его руку, — и это объяснимо. А я до конца не доверяю тебе. Я столько всего о тебе не знаю, — ее взгляд скользнул к его руке, но без упрека, просто в качестве констатации факта. — Если сделать все быстро — твое условие, Антон, я его выполню. Но если есть возможность присмотреться друг к другу хотя бы немного, почему бы ею не воспользоваться? Нам же не восемнадцать. Мы больше ничего не должны никому, кроме самих себя. И я уже сказала, что ты единственный мужчина, которого я любила. И единственный, кому я это говорила. Что еще тебе нужно знать, чтобы быть уверенным, что я не сбегу?
Да кентавр тебя дери, Долохов. Ты что, кисейная барышня, перед которой нужно упасть на колени? Или ты в самом деле хочешь повторить ту же ошибку, что сделали наши родители, когда впопыхах организовали нам свадьбу на руинах Парижа после оккупации? Это несчастливая примета, Долохов, — быстро строить что-то на руинах прежней жизни. Нам ли с тобой этого не знать.
Поделиться132021-04-13 00:31:58
Привычно набегавшая волна язвительности, упрямства и желания доказать сопернику, что он не прав, схлынула настолько быстро, что Долохов на долю секунды оторопел. Это было непривычно. Обычно на этом ничто никогда не заканчивалось: либо они ругались в хлам, либо разбегались по разным углам, чтобы через минуту начать все опять, либо он тащил ее в спальню, либо уходил курить, возвращался, и все начиналось по кругу.
Но в этот раз Анна словно решила остановиться, чтобы они сразу перешли к тому, что было утром или сильно позднее вечером: решение проблемы. В этот раз она поступила так, как он сам бы поступил, если бы она не подогревала все самое дурное, что в нем было, заставляя выйти это наружу самым некрасивым образом. Антонин ведь устал ругаться, он уже давно не тратит лишние эмоциональные силы ни на слова, ни на людей. Как бы парадоксально это ни прозвучало, но одних шести лет ему хватило, чтобы перестать заниматься подобными вещами.
В ее словах была логика. И это бесило, но уже как-то по-хорошему. Не до той степени, когда он хотел выбросить ее в окно, а когда понимал, за какие ниточки она дергает. Потому что если путь к чьему-то сердцу и лежит через желудок, то в их семье этот путь был проложен рациональностью.
Самым непонятным для него оставалось то, почему он так легко снова пусть и про себя называл их семьей. Ее — женой, себя — ее мужем. Словно и не было этого разрыва в двадцать восемь лет, словно у нее нет другой жизни, словно у него нет совершенно другой жизни, куда понятие «семья» не особенно вписывается. «Но я хочу это вписать и сложить вместе». Антонин, признайся, тебя все-таки развела баба. Вот говорил ты когда-то своему студенту, что все проблемы из-за них, а сам же на бабу в итоге и повелся. Надеюсь, хоть Иван тебя послушал, да с женщинами не связывается.
Как Долохов раньше никогда не обнимал свою жену, так и она никогда не брала его за руку просто так. По всей видимости, в семье, где правят логика и прочие вытекающие, даже прикосновения тоже должны были быть логичными. Помнится, он сам первый раз взял ее за руку в ночь после свадьбы, движимый каким-то набором еще тогда незнакомых эмоций, и далее боялся это повторить. И вот спустя столько лет, когда он снова смог подчинить свою жизнь исключительно четкому плану, Аня берет его за руку, и он не знает, что с этим делать.
В этот раз она задала правильные вопросы. Хочет ли он видеть ее рядом с собой, хочет ли бояться за нее. Готов ли на пойти на это вообще.
— Не хочу и не готов, — отвечает он тихо, тоже сжимая ее руку в своей, хотя Аня разрешила не отвечать вовсе. Решил озвучить это, но даже не потому что когда-то они договорились быть максимально честными, а потому что сейчас договорились говорить обо всем сразу и открыто. — Это рискованно, в первую очередь для тебя. Но я ничего не могу с собой поделать, потому что очень хочу через это переступить. Подозреваю, что ты права, и это нужно делать постепенно.
Ему не нравилось, что он ей верил. Антонин Долохов, Пожиратель Смерти, бывший преподаватель некромантии, жестокий преступник, который пытал не одного человека за последние десять лет, никому никогда не верил, пока не проверит все факты, найдет все аргументы, взвесит все «за» и «против», если надо — построит диаграмму и рассчитает уравнение ситуации по теории вероятности. И почему-то все тот же Антонин Долохов со всеми своими регалиями практически на сто процентов был готов довериться женщине, которая сидела напротив и которую еще едва три недели назад считал мертвой и давно закопанной в землю на его семейном кладбище в Париже.
И на ее все еще правильный вопрос захотелось ответить какой-то невинной шуткой. Не потому что он не знал, что ей ответить, а потому что ответ ему не нравился. Потому что ему, подозрительному, мнительному, рациональному, не нужно было от нее практически ничего.
— К кентаврам меня не забывай посылать, а то совсем расслаблюсь, — усмехнулся Долохов, целуя ее руку. — И, Мерлина ради, объясни мне, как ты вытерпела восемнадцать лет с тем подобием волшебника, которого ты зовешь мужем. Я еле выдержал те пятнадцать минут.
Поделиться142021-04-13 10:46:28
Не хочу и не готов. Вот и все – по крайней мере, тридцать шесть лет спустя они научились быть друг с другом честными. Если бы их родители тридцать шесть лет назад тоже умели услышать отказ, возможно, их с Долоховым жизнь – даже совместная – сложилась бы иначе.
Анне часто казалось в те десять лет, что она уже не была Долоховой, но еще не стала Каунтер, что будь у них с Антонином фора для знакомства, общения, обустройства собственной жизни и, самое главное, для того, чтобы сделать друг друга собственным, а не родительским, выбором, они были бы избавлены в жизни от множества печалей и даже от разочарования, которое всегда настигает как послевкусие после неудачной, обернувшейся крахом первой любви. Но никакой форы у них не было, и взаимное разрушение, которое им обоим когда-то так нравилось, обернулось привязанностью, протянувшейся на всю оставшуюся жизнь. Ты не смог найти другое счастье, и я не смогла, Антон. И наше исключительное, невероятное везение, что мы оба все еще можем сойти с ума настолько, чтобы решить, что что-то из нашего прошлого подлежит восстановлению.
Долохов сам не знал, как он уязвим вот прямо сейчас. Нет ничего более доступного для чужой магии, чем размягченный и сбитый с толку непривычным чувством разум. Вот сейчас скользнуть бы тебе в голову и вложить в нее мысль, что я по-прежнему мертва. А потом встать и уйти отсюда навсегда. Или снова заставить тебя бояться. Или внушить тебе… да что угодно. Ты сам не понимаешь, насколько ты беззащитен вот прямо сейчас, просто потому что ты почему-то снова мне веришь. Не менее странно то, что тебе до сих пор верю я.
У доверия не было рационального объяснения, как бы ни хотелось. И, вероятно, между ней и твердым убеждением, что с Антонином Долоховым, убийцей и Пожирателем Смерти, ей было больше не по пути, стояло лишь то, что Анна знала, что Антонин Долохов – убийца, задолго до того, как обнаружила на его руке проклятый знак. У Долохова всегда были собственные отношения со смертью, и некромантия лишь очень условно была более нравственным занятием, чем убийство.
Анна просто всегда знала, что он готов и может это сделать, если захочет или возникнет необходимость. До Арно Рюэля ей никогда не приходило в голову примерить это на их совместную жизнь, но все когда-то бывает в первый раз, с этим Анна давно уже смирилась. Она пыталась отыскать в себе сейчас если не страх, то хотя бы какую-то осторожность: ей ведь было что терять, и, кроме того, она никогда не хотела связывать себя с теми, кто убивал невинных людей.
Проще всего было просто отложить эту мысль в дальний ящик, как она и делала с той ночи, проведенной в этой квартире с Долоховым. Разумнее всего, раз уж она все-таки не могла отказаться от него и от их второй попытки быть вместе, продолжать проводить черту между собой и Долоховым и его новым «ремеслом». Черту по другую сторону от черты, за которой осталось наличие у них общего ребенка. Это уже начинает напоминать клетку, а не отношения, Антон, ты не заметил?
Но Долохов сжимает ее руку в своей, и Аня отказывается от мысли задать ему этот вопрос. Пока это неважно. Всегда есть шанс, что такие нюансы не придется проговаривать, потому что они проявятся в их жизни сами собой.
- Можно подумать, для тебя – нет, - Аня качает головой, чтобы не произносить то, что точно, окончательно и бесповоротно все испортит. – А с кентаврами ты не расстанешься никогда, в этом ты можешь быть уверен.
Она улыбается, позволяя ему поцеловать ее руку. Долохов никогда не баловался в молодости такими глупостями, но они все равно ощущаются правильно – как будто они росли-росли и доросли до объятий без повода, спокойных разговоров и мимолетных, ни к чему не ведущих поцелуев. Устали соревноваться, неужели.
- Ты просто не был его женой, - насмешливо фыркает Аня. – Тебе опять не понравится, но я жила с ним счастливо. Мы познакомились на конференции в Бостоне. Через десять лет после того, как я от тебя сбежала. Он тогда еще работал в министерстве, но уже собирался уходить и из него, и из магического мира, - ее губы дрогнули в улыбке, - он был нелепым. Смешным. Забавным. Пользовался ради меня сквозным зеркалом, чтобы мы могли говорить. Я тогда подумала, что это не будет продолжаться. Потому что… ну серьезно. Ты его видел, ты понимаешь, почему. А потом я поняла, что устала. От того, что вся моя жизнь – это только работа. А он хотя бы мог заставить меня смеяться.
Аня говорит, извлекая маленькие, даже крошеные воспоминания о той жизни, которая у нее была восемнадцать лет назад. Не убирает руку и смотрит Долохову прямо в глаза – это было, когда его в ее жизни давно уже не было. И еще не было тоже. Он спросил, и она посчитала нужным ответить. Это же так, кажется, и делается?
- Он заботливый. Доверчивый. Надежный. Я не могу представить, чтобы он сумел меня обмануть. Чтобы у него была постыдная тайна. Чтобы его жизнь вдруг оказалась важнее моей. Мне все это, как оказалось, было важно, когда мы познакомились. Мне казалось, что в жизни набело я должна выбрать себе вот такого. Чтобы один раз и до самой смерти.
Отредактировано Anna Counter (2021-04-13 10:47:51)
Поделиться152021-04-13 18:03:45
Да уж. А тут появился я. До самой смерти не получилось.
Аня была права: ему не понравилось. Но ему было интересно услышать, с кем она провела эти годы. Наверное, ему было даже приятно от того, что она намеренно выбрала человека, который уж точно не причинит ей боль. Приятно, но как-то немного самому больно. Вся ее дальнейшая жизнь сложилась из, по сути, одного его поступка. Да, ему предшествовали многие другие, но жирную точку поставил лишь один. И в итоге человек так бежал от любой боли, что даже выбрал себе в спутники жизни того, кто не способен обидеть. Только любить.
«А ты не способен ее любить», — послышался голос из очень далекого прошлого, который Антонин резким движением силы воли отодвинул настолько далеко в сознании, насколько мог. Этот голос там сидел уже очень давно, и не стоило ему вообще вылезать наружу. Поэтому Долохов лишь чуть дернулся, стоило ему его услышать, а потом сундук с надписью «Роман Долохов» снова захлопнулся.
Он все еще внимательно ее слушал, ловя все те мелкие детали, которыми она решила поделиться. О том, какой этот Эндрю заботливый, какой любящий, какой старательный, ведь ему так дурно удается все, что касается магии, но ради нее он старается и даже научился пользоваться сквозными зеркалами. Аня, ты уверена, что хочешь это бросить? Ведь это стабильность, это даже наверное какое-то подобие классического счастья. Даже несмотря на то что ты его не любишь. Ты сама сказала: ты его выбрала, потому что он подошел по всем нужным тебе в этой новой жизни параметрам. И ты действительно готова променять это на нас? Все-таки мы с тобой сошлись, потому что оба дураки.
Антонин даже хотел озвучить свои вопросы вслух, но не стал. Ведь она уже и так сказала, что готова променять восемнадцать лет на шесть. Не сразу, но готова. Анна никогда бы не стала заявлять что-то, если бы не имела это в виду на самом деле. Эта черта точно в ней осталась. Да и он понимал, что восемнадцать лет с таким человеком — его Ане это стало бы уже очень скоро попросту скучно.
— Если бы я не видел его вживую, то решил бы, что ты себе нашла человеческую версию домового эльфа, — выдал Антонин, чуть пьяно улыбаясь и понимая, что ничего лучше сказать не может. — Прости, не смог удержаться, — тут же хохотнул он, но снова постарался стать серьезным. — На самом деле, я рад, что у тебя получилось. Тебе удалось не только сбежать от нашего с тобой дерьма, но и воплотить в жизнь все то, что ты хотела. У меня все сложилось немного иначе.
Намного иначе. Если Аня получила новую жизнь, новую страну, новую семью, смогла построить свою научную карьеру, даже нашла себе мужа, который во всем и всегда ее поддержит, то Антонин получил возможность для собственных изысканий в темной магии без каких-либо формальных ограничений в виде семьи, а прицепом — слухи о ненормальном преподе-некроманте, который заставлял жену жить с ним в школе, что она даже решила умереть; который мечтал о сыне, но у него родилась дочь, поэтому он с особым рвением ненавидел всех студентов-мальчиков, а на Локи учились преимущественно мальчишки. Да, Долохов встретил Лорда и нашел себе новую цель, которая даже оправдывала средства, цель, от которой не хочется отступаться. Но он не получил, не нашел той эмоциональной заслонки, которая бы перекрыла его жизнь до 1949 года, как это сделала для себя Аня.
Зачем Долохов ей это стал рассказывать, он сам не понял, поэтому быстро одернул себя:
— Что-то меня понесло. Не подумай, что я жалею о последних годах без тебя, просто до этого они мне казались чуть более продуктивными или… Не могу точно сформулировать. Словно и рассказать о себе нечего, хотя за эти годы произошло немало событий.
Бутылка вина тем не менее скоро грозила закончиться. И либо открывать вторую, либо прощаться, либо что угодно еще. И каким бы логичным ни казался исход, что она сейчас уйдет, Долохов очень не хочет спрашивать, останется она сегодня или нет. Ведь когда-то, наверное, будет день, когда она скажет, что ей нужно домой, и наступление этого дня он хотел бы по максимуму оттянуть. Да, он согласился, что надо дать друг другу время, что больше нельзя пытаться вскочить одним прыжком в этот поезд и надеяться, что он не сойдет с рельсов — сойдет же, уже пробовали.
А ведь вроде бы и комендантский час уже давно пробил, к чему спрашивать.
«Беги. Выгони ее. Выйди в другую комнату. Сбеги. Отпусти ее», — снова зазвучал голос в голове, но не отца, а чей-то чужой, очень похожий на собственный. Словно остатки того страха двухнедельной давности, которым Аня его огрела в их первую встречу. Антонину очень не понравился этот голос, и оставаться с ним наедине ему очень не хотелось.
Поэтому он продолжил держать ее за руку, решив, что ее нахождение рядом здесь и сейчас будет той константой, вокруг которой можно хотя бы временно строить новый уклад жизни. Открыл вторую бутылку вина. Пусть просто остается.
Поделиться162021-04-13 22:07:58
Жизнь без нее у Долохова вышла какая-то неумелая и утлая — он вроде и получил все, что хотел еще в их браке, но как будто в извращенной форме. Мечтал преподавать и преподавал, окруженный дурацкими слухами о мертвой жене, о несбывшейся мечте о сыне и прочей лабудой (на этом месте рассказа Анна даже негромко рассмеялась — легко было представить Долохова и эти легенды во всех красках); мечтал об изучении темной магии — и получил его в более чем одном смысле, успев даже стать колдомедиком; вот о как будто бы высокой цели Долохов, кажется, раньше не мечтал, но она появилась сама собой и, видимо, практически осветила путь. Это Анне не очень нравилось, потому что казалось каким-то совершенно не подходящим для ее горделивого, умного, амбициозного мужа, но ничего поделать с этим она не могла — вместо того, чтобы пытаться помочь ему, она уже когда-то выбрала смерть.
Долохов говорил, не отпуская ее руки, но вино все равно каким-то образом убывало. Анна даже простила ему вином же нашептанную шутку про Каунтера. В конце концов, Долохов был не так уж не прав. Каунтер и так был похож на домового эльфа, только их семейная жизнь для него точно была счастьем, а не повинностью. Рад ли Антонин был в самом деле, что у нее «все получилось»? Возможно. Отчасти. Наверное, да. Почему-то это вызвало у Анны чувство сродни умилению — ей нравился этот новый Долохов, который ради нее мог позволить себе немного несвойственной ему щедрости души.
— Ты жил так, как тебе нравилось, — пожала плечами Анна, принимая это за важный аргумент. — Это нормально. Но я поэтому и прошу не торопиться. Ты имеешь право решить, что твоя прошлая жизнь не стоит нынешней.
Мы оба имеем на это право, не договорила Анна, потому что знала, что это Долохов наверняка поймёт и сам — большой же уже мальчик. Ей не хотелось оставлять для них обоих слишком много лазеек в прошлое — не хотелось обнаружить, что на самом деле она цепляется за восемнадцать безоблачных лет больше, чем за возможность быть самой собой с человеком, который любит твою самую мерзкую, самую не приукрашенную версию. Но ей хотелось, чтобы в этот раз в их отношениях были воздух и пространство для маневра, потому что зависеть друг от друга так, как они могли в юности, уже не получится. Для этого они стали слишком взрослыми, слишком состоявшимися порознь людьми.
— Я никогда не думала, — вдруг тихо сказала Анна, скользнув кончиками пальцев по рукаву его рубашки к тому месту, где прятался череп со змеей, — что это будет для тебя так важно.
Об «этом» Долохов говорил немного и обтекаемо, но общий смысл становился понятен, стоило только вспомнить статьи и совещания после Рождества. Анна все не могла понять, как она к этому относится и как ей следует к этому относиться. Это был какой-то новый Дурмстранг, важнее которого в жизни у Долохова снова ничего не было. Это было нечто, что снова явно было превыше него, ее и их двоих. Анне казалось, что второй раз она будет не в состоянии с этим смириться. И однажды то, что он делает, окажется, наверное, слишком даже для нее — для той, кто всегда, с самого первого дня их знакомства, знал, на что Долохов способен.
Время давно перемахнуло за комендантский час, Долохов открыл вторую бутылку вина, замолчал. Пора было уходить. Анна думала воспользоваться камином или просто аппарировать от самой входной двери в дом, но она решительно не знала, что ей сегодня делать с Каунтером. У нее не осталось на его любовь никаких сил — для Эндрю нужно будет изобретать какую-то ложь, погружаться в его жизнь, в его день, выныривать из мрачноватой, похожей на густые чернильные зимние вечера в Дурмстранге реальности их с Долоховым жизни, которую они никогда по-настоящему не закончили проживать, в праздничный и светлый, окрашенный в цвета фратерните, эгалите и либерте мир их с Каунтером оксфордского дома. Вот поэтому, наверное, она однажды останется у Долохова навсегда.
Анна убрала свою руку и встала, но только для того, чтобы обнять Антонина за плечо и склониться к самому его уху, поцеловать его в висок, в уголок губ. Долохов казался ей уставшим и, наверное, даже измучившимся — как будто то, что мучило сомнениями ее саму, наконец упало и на его плечи.
— Пойдем спать, Антон, — тихо сказала Аня и снова вложила свою ладонь в его. — Поздно уже.
Поделиться172021-04-14 09:18:36
Долохов понимал, что для нее будет самым странным и непонятным. То, что всегда было странным и непонятным для него самого — Метка. Антонин Долохов никогда бы не пошел за кем-то ради какой-то высшей цели. По крайней мере, он так когда-то думал, а потом встретил Тома и нескольких его союзников в Париже. И что-то было в этом человеке, что-то притягательное, что-то интересное, что-то всколыхнувшее его. Возможно, он попал в удачное время, когда Антонин начинал подумывать о том, что делать дальше с преподавательским ремеслом, потому что, в целом, уже выжал из него все то, что хотел. Да и то, что Том пропагандировал, было ему близко. И вот как-то одним летом в одном из небольших магических ресторанов в Париже его мир буквально перевернулся.
Дальше были путешествия по Европе, поиск сторонников, поиск новых ресурсов, вечный поиск чего-то неизведанного, углубление в такую теорию темной магии, о которой они, наверное, и не думали до того момента. Риддл к тому же тоже оказался сильным некромантом, и несколько вечеров они даже провели за спорами об этом, ведь учились этой науке совершенно по-разному и настолько же по-разному на нее смотрели.
Антонин рассказывал Анне не все, но постарался хотя бы дать ей понять, почему это стало для него важно и интересно. Он был уверен, что она не поймет, но, может, хотя бы попытается принять тот факт, что это не какая-то блажь в виде должности в Дурмстранге.
— Словно какие-то части меня, которые приходилось в себе буквально топить и не выставлять очень уж сильно напоказ, наконец нашли свое место, — уже как-то тихо и сонно добавил он в конце.
Целовать ее перед сном было все еще так же легко, как и две недели назад. И эта легкость напрягала примерно так же, как и когда он целовал ее в первый раз в августе 1944 года, когда он тоже решил, что утром придумает, что с этим делать.
Беги. Выгони ее. Выйди в другую комнату. Сбеги. Отпусти ее. Выставь за дверь. После этого можешь даже закурить. Сбеги. Избавься от этого сразу. Ты не способен ее любить. Ты вообще никого не способен любить, Антонин. Ты уже ее погубил, я сделал ошибку, когда решил вас поженить. Надо было оставить тебя и твои никому не нужные интересы и амбиции в Дурмстранге, где тебе и место. Надо было избавиться от тебя еще, когда ты был маленьким, да побоялся я грех на душу взять. Да и мать твоя тебя любит, дура, все матери, к сожалению, любят своих детей. А я тебя всегда видел насквозь, ты родился таким же мертвым ко всему живому, как те трупы, которые ты оживляешь на занятиях. Ты думаешь, я не знаю, кто ты такой на самом деле? Думаешь, я не знаю, что ты сделал с тем молодым человеком? Я не сдал тебя только потому, что это бы разбило сердце твоей матери, да и твоей жене тоже, хотя я вообще не понимаю, как она тебя еще любит. А она тебя любит, мразь ты эдакая. Я так надеялся, что она сможет вытравить из тебя всю ту беду, которая в тебе живет с младенчества, но, видимо, мы тут все проиграли. Ты закончил? Это все, что ты хотел мне сказать? А какое тебе дело, все равно как об стенку горох. Уж лучше бы корабль твой затонул где-то по пути в твою школу. И тебе доброй ночи, отец.
Убегай. Сбеги. Оставь. Выставь ее за дверь. Однажды ты ее погубил, погубишь еще раз.
Голос отца еще звучал у него в голове, когда он проснулся. Давно этот призрак не выбирался наружу. Лет двадцать как.
— Что случилось? — сонно спросила Аня, почувствовав, как резко он дернулся, пробуждаясь от явно неприятного сна.
— Старые кошмары. Разбередила мне воспоминания, вот опять началось, — попытался он ее успокоить, прижимая к себе, но больше для успокоения собственного. — Спи, все хорошо.
Кажется, мне и правда нужна твоя помощь, Аня. С таким дерьмом в голове мне не то что нельзя Тому показываться, нельзя даже на улицу выйти.
Поделиться182021-04-14 15:39:27
Впервые за долгое время Анне ничего не снилось – ни хорошее, ни плохое. Сон был не более чем пустотой и чернотой, в которую она провалилась, спиной прижимаясь к Долохову, и, вероятно, благодаря нему, эта пустота была теплой и приятно всеохватной – как какое-то большое, пушистое одеяло, которым накрывают только в родительском доме и только очень маленьких детей.
Если бы Долохов был хоть сколько-нибудь похож на Каунтера, его можно было бы назвать «домом», апеллируя к растиражированной в дешевых дамских романах метафоре о человеке, замещающем собой все сущее и материальное в жизни другого человека. Но Долохов был самим собой, и, если он и был «домом», то дом этот стоял где-нибудь на скалах, обдуваемый всеми ветрами, ощерившийся провалами незастекленных окон, скрипящий несмазанными дверями, поскрипывающий по ночам рассохшимися досками и готовый вот-вот соскользнуть в бездну. У рациональных людей привязанности к такому сооружению, даже если оно существует лишь в воображении, быть не может. Но Анна уже давно поняла, что одной только рациональностью, как бы ей ни хотелось этого в юности, жизнь не исчерпывается.
С восхитительно далекой от рацио точки зрения, Антонин был человеком, который идеально ей подходил всем, кроме образа жизни, невыносимого характера, совместного прошлого и сомнительного и едва ли возможного совместного будущего. И, засыпая с этой мыслью, Анна самой себе почему-то все равно казалась на своем месте. Возможно, потому, что Долохов поцеловал ее на ночь точно так же, как делал с их первой совместно проведенной ночи. Странная привычка, которая взялась неизвестно откуда, когда еще ничто не предвещало, что им будет хорошо вместе, и которая сама собой сошла на нет к концу их брака. Теперь, кажется, можно говорить – к концу их первой попытки.
Еще перед сном Анна думала о словах Долохова: «словно какие-то части меня наконец нашли свое место». Значит, это не новый Дурмстранг. Это больше, серьезнее, глубже и страшнее. Хотя бы потому, что не нужно быть знатоком конкретно этого тайного общества, чтобы понимать, что в нем вряд ли можно при желании написать заявление об уходе. С этим знаком на руке Долохову, если потребуется, понадобится умереть, и с этим Анна решительно не знала, что делать. Она только-только по-настоящему научилась жить с собственной смертью.
Во сне всего этого, как ни странно, не было. Ей не снилась ни осыпавшаяся миллиардом осколков крыша вокзала, ни окровавленные тела в Мунго, ни темноволосая девочка с тяжелым отцовским взглядом. Потом, после долгой, приносящей покой и отдохновение, пустоты и темноты, ей снился Париж – тот самый Париж после оккупации, в который она вернулась после школы. Она идет привычным маршрутом, который ее ноги как будто бы помнят даже спустя тридцать шесть лет, сворачивает на улицу Лютес и шагает дальше, к дому, что ближе к бульвару Пале и видим только его обитателям, так уютно и ладно он втиснулся между двумя маггловскими домами. Она кладет руку на гладкую, отполированную сотнями прикосновений, дверную ручку, привычно нажимает на дверь и в ту секунду, когда во сне Анна вот-вот сделает шаг вперед, ее мир неожиданно дергается и приходит в движение.
Анна просыпается рывком и садится, инстинктивно поворачиваясь к Долохову. Антонин тянется к ней, успокаивая не то ее, не то себя, но выглядит неубедительно ни в том, ни в другом, и Аня тянется к нему, целуя туда, куда может дотянуться. В темноте спальни это тоже неловко и неудобно, но, по крайней мере, лучше, чем его сбивчивые оправдания. От кошмаров – и это знание ей подарил Каунтер – бережет только прикосновение другого человека, готового тебя вместе с этими кошмарами принять.
- Кошмары – про отца? – осторожно спрашивает Анна, когда их возня затихает, и они лежат друг напротив друга, так близко, что невозможно соврать и остаться неразоблаченным. Это смелое предположение, конечно. Может, Долохов давно вырос из тех кошмаров? Просто отец – это первое, что пришло Анне в голову. В конце концов, Антонин сам недавно говорил, что это отец назвал его монстром в первый раз. И это отец осадил его розгами перед невестой, когда ему было восемнадцать. О чем еще Антонину Долохову могут сниться кошмары? О новой жизни, о которой она по-прежнему не очень много знает?
Анна не уверена, что она имеет право на это знание, но зато уверена, что, если такого права у нее нет, Долохов не постесняется это озвучить.
Поделиться192021-04-14 19:30:52
Антонин даже усмехнулся. Конечно, про отца. И ему это всегда казалось таким глупым. Может, не всегда, но последние двадцать лет точно. Слишком просто обвинять другого человека в том, кто ты есть. Слишком просто цепляться за детские обиды и травмы разного характера, словно ты не можешь с ними разобраться.
Долохов в свое время разобрался. Не сразу, но разобрался. Перестал вспоминать, собрал все, что так ненавидел об отце и о своем детстве и запер наглухо где-то очень далеко в своем сознании, еще дальше, чем «жизнь до 1949».
Потому что цепляться за обиды легко, но и отрицать их тоже нельзя. Можно спрятать. Антонин решил, что это будет лучшим решением, чем пытаться разобраться в том, что было уже давно. Решил настолько четко, что, когда получил письмо от дочери с известием о смерти Романа Алексеевича, с облегчением осознал, что не чувствовал по этому поводу ровным счетом ничего. Честно расстроился, узнав о смерти матери, но даже это не заставило его вернуться в Париж.
Но вот в его жизни появилась ожившая Аня, и отрицать что-либо стало бессмысленно. Поэтому мерзкий призрак с лицом его отца снова и очень резко тоже вернулся в его жизнь. Со всеми упреками, со всеми разговорами, со всей болью. Особенно со всей болью. Когда-то Антонину казалось, что боль — особенно физическая — уже давно стала неотъемлемой частью его жизни, которую уже давно можно не замечать, но в первые годы после смерти жены все снова стало невыносимо. Ведь он перестал приезжать не только из-за ребенка, но и из-за отца, который если раньше и скрывал хоть как-то свои неприязнь и ненависть, то потом перестал это делать и наоборот выставлял напоказ.
За это нельзя цепляться и нельзя чужие поступки делать причиной своих. Но и отрицать их тоже нельзя.
Ей как-то всегда удавалось понять, когда ему есть, что сказать, но говорить именно в тот момент времени не хочется. Почему-то именно в таких ситуациях она знала, как четко нужно задать вопрос, чтобы попасть в цель и не дать ему возможности отвертеться. Он мог бы, но как тут устоять, когда вот этот человек напротив чувствует тебя неожиданно настолько тонко, что нет возможности или права лишить его ответа. Возможно, делай она так почаще, не отвлекаясь на вечное с ним соревнование, может, они бы заговорили намного раньше.
— К моему стыду, да. Я думал, что пережил его и последствия его воспитания, но, видимо, Роман Алексеевич со мной навсегда. Даже смешно, — Долохов как-то горько усмехнулся. — Такой человек, как я просыпается в холодном поту от воспоминаний о говнюке-отце, — он перевернулся на спину, глядя в потолок. — Хотя, наверное, не каждый родитель открыто сожалеет, что не утопил своего ребенка.
Он немного пожалел, что сказал это, ведь буквально недавно они с Аней сами говорили о том, что хотели бы, чтобы их дочь не родилась. Но одно дело когда ребенка не ждут, когда ребенок зачат в боли, и совсем другое, когда в ребенке, причем уже давно родившемся и явно хоть в каком-то подобии любви, разочаровываются настолько, что проще от него избавиться.
Очень хотелось сказать Ане что-то в духе: «Не бери в голову». Потому что это были его проблемы, и решать их предстояло снова ему одному. В одиночку. Он уже давно «в одиночку». Она наверняка предложит какое-то свое решение, но Антонину все равно казалось это лишним. Его отец — его проблема. Его кошмары — его проблема. Но она не проявляла такого к нему участия еще никогда, и это обезоруживало, притягивало, буквально заставляло погрузить и ее тоже в этот ворох призраков прошлого, от которых надо было бы избавиться, а не прятать, которые надо было побороть — в буквальном смысле, а не просто задвинуть в долгий ящик.
Но вот он проснулся среди ночи, а она сама тянется к нему, не успокаивает, не говорит, что все пройдет или «куда ночь, туда и сон», как его всегда украдкой успокаивала мама, когда он был совсем маленьким. Аня же просыпалась вместе с ним и была готова поддержать.
Что-то новенькое.
Поделиться202021-04-14 21:03:45
Роман Алексеевич Долохов был человеком, о котором трудно было вспоминать с теплотой. На первый взгляд совершенно не похожий на Антонина ни внешне, ни по повадкам, он производил обманчиво приятное впечатление — по крайней мере, Анна точно знала, что ее собственный отец до конца жизни считал Романа Алексеевича весьма приличным человеком.
Ей самой старший Долохов не оставил никаких иллюзий еще в день знакомства с будущим мужем, когда появился в библиотеке и ударил Антонина так, словно большего зла, чем его собственный единственный сын, на свете и не было. Анна помнила лицо тогда еще будущего свекра куда лучше, чем сам удар взметнувшихся в воздухе и почти лизнувших ее руку розг Variare Virgis: это было лицо, перекошенное от настоящей, нутряной, беспримесной ненависти. Так вообще не смотрят на собственных детей. Теперь Анне казалось, что даже на своего маленького спрута, если бы хоть раз увидела, она не смогла бы смотреть так. Так, как смотрел тогда Роман Алексеевич на Антонина, смотрят на незнакомых взрослых, совершивших непростительное преступление. На тех, в ком давно не ищут ничего человеческого, понятного, способного вызвать сочувствие. Антонину тогда было восемнадцать, но для своего отца, как Анна понимала теперь, он уже тогда был опасным преступником. И мягкая, но слишком робкая любовь матери, Софьи Павловны, была не в состоянии это исправить.
Он впервые услышал слово «монстр» от отца.
Даже хорошо, наверное, что их совместная жизнь началась с того инцидента с розгами, потому что когда Анна в конце концов осталась со свекром и свекровью одна, у нее уже не было на их счет никаких иллюзий. Она приняла тогда решение всегда быть в этом споре на стороне мужа, потому что Антонин отныне и, как тогда казалось, во веки веков, был ее семьей. Роману Алексеевичу, стоит отдать ему должное, всегда хватало ума в этом с невесткой не спорить.
Анна часто спрашивала себя почему. Она могла понять, почему он после изнуряюще долгого разговора признал ее право умереть из брака с его сыном; но очень долго не могла понять, почему для этого брака он вообще выбрал ее, почему не посчитал нужным вмешаться хоть раз, если не для того, чтобы помочь построить, то хотя бы для того, чтобы разломать до конца. Будь Роман Алексеевич жив, сейчас она могла бы заставить его ответить на этот вопрос. Но он умер, и известие о его смерти ничем в Анне не отозвалось, кроме облегчения — люди, хранившие ее тайну, постепенно уходили, исполняя свое обещание унести эту тайну в могилу.
— Это не так устроено, — тихо сказала Анна, придвинувшись поближе к Антонину. Она положила ладонь ему на грудь, с той стороны, где все еще учащенно билось, успокаиваясь, его сердце. — Этого не надо стыдиться.
Роман Алексеевич был бы счастлив узнать, что его сын просыпается сейчас в холодном поту, вспомнив о нем. Что их нелепое расставание и воссоединение обернулось для Антонина таким образом — возвращением в жизнь другого, третьего, мерзкого, с перекошенным от ненависти лицом.
Свекор был бы счастлив также убедить и ее в том, что Антонин — не более чем монстр. Анне казалось, когда она мысленно возвращалась к тому их разговору в кабинете Романа Алексеевича, что он даже испытал облегчение, если и вовсе не удовольствие, от того, что она, его невестка, мать его внучки, наконец прозрела и тоже заметила то, что всегда было очевидным и лежало на поверхности. Но над ней свекор никогда не имел власти, и, должно быть, он тоже об этом знал.
Интересно, каким дедом он стал для их с Антонином ребенка?
Анна поцеловала плечо Антонина, привлекая его внимание.
— Что тебе снится? Что он тебе говорит?
Не каждый родитель сожалеет, что не утопил своего ребенка. Некоторые сожалеют о том, что ребенок вообще родился. Анна хотела бы поддаться соблазну считать, что они с Антонином были другими, но это было маловероятно. Со стороны брак старших Долоховых казался благополучным и даже основанным если не на любви, то на взаимном уважении, но ведь и они с Антонином когда-то умели притворяться на людях. И, если бы у нее не получилось сбежать, они продолжали бы эту игру еще очень долго. Так долго, что когда-нибудь кто-нибудь обязательно бы поверил, что их дочь зачата если не в любви, то в уважении и некоторой привязанности друг к другу.
Думать об этом было больно и мерзко. Не от того, что она когда-то желала своему ребенку не родиться, а от того, что это делало их обоих похожим на мерзкого, ушлого, жестокого человека, который по-прежнему тянул свои руки из небытия.
Анне хотелось найти способ развеять этот морок кошмара для Долохова. Потому что кошмар вернулся в его жизнь вместе с ней, и в этом нетрудно было рассмотреть и несправедливость, и закономерность. Поэтому она искала физического контакта — невинной, простой ласки, чтобы сказать старику из кошмара, что он больше не имел над монстром, которого произвел на свет, никакой власти.
Поделиться212021-04-14 23:29:39
Анна говорит, что этого не надо стыдиться, но это в ней говорит женщина, которая лишь со стороны столкнулась с тем, с чем столкнулся он. Наверняка можно было заметить многое, возможно, даже больше, чем Антонин видел сам, но такие отношения отца и сына надо было прочувствовать на себе, чтобы осознать их в полной мере. Отношения отца и сына могут быть строгими, авторитетными и даже авторитарными, но они не должны быть преисполнены такого количества неприкрытой ненависти, которой его хлестали не только словами, но даже магией.
И для любого сына будет постыдно признать, что он — разочарование своего отца. Еще более постыдно — признать, что ты ничего не мог с этим сделать, потому что отец уже для себя все решил. Решил, что он жалеет, что не избавился от разочарования. Разочарованию еще зачем-то дали шанс на искупление, но и тут он его не оправдал. Словно Роман Алексеевич специально в итоге оставил его в живых, чтобы напоминать сыну об этом своем сожалении.
Да и сыном он его звал только на людях. Дома это было всегда суровое «Антонин». Имя, которое всегда запрещалось сокращать, ведь «его при рождении назвали именно так». А младшему Долохову хотелось быть кем угодно, но только не этим холодным «Антонином».
И кто он в итоге? Имя до сих пор не подлежит сокращению, потому что при рождении его назвали именно так и именно таким его сделали отец и жизнь, и это уже давно надо было перестать отрицать. Только жена могла назвать его по-своему и как будто давала ему разрешение побыть немного другим человеком.
— Много чего говорит, — вздыхает он, все еще глядя наверх и как-то машинально прижимая Анну еще ближе к себе. Словно ему нужно было за нее держаться, чтобы удостовериться, что сон все-таки закончился и что в реальности никакого Романа Долохова уже давно нет. — Но всегда об одном и том же. Что я ужасный и неисправимый человек, что я неспособен кого-либо любить, в особенности — тебя. Что хотел заявить на меня за убийство, но решил пожалеть вас с матерью. Частенько желает мне не доплыть до Дурмстранга. Сейчас говорю это, и все звучит, как пустяк, наверное. Но в юности было… обидно, наверное.
Естественно, сон уже как рукой сняло. Хотя было бы намного проще сделать вид, что это был обычный кошмар, снова поцеловать ее, как он обычно целовал ее перед сном, и попытаться уснуть. Но Антонину не понравилось, как быстро и насколько безошибочно Аня даже спустя столько лет тут же подумала о его отце, как о главном кошмаре его жизни, что у него даже закралась мысль, что Роман Долохов стал кошмаром и для нее.
— Как тебе удавалось уживаться с ним? Он точно ничего тебе не сделал за то время, что ты жила в нашем доме? — вспомнилось, как перед свадьбой он угрожал отцу, что воспользуется Непростительными, если узнает, что тот причинил боль его жене в его отсутствие. Но ведь ее тоже можно было запугать. Она ведь могла о чем-то и умолчать.
Не дай Мерлин что-то было. Нахрен из могилы выкопаю, оживлю и заставлю жрать свой гроб.
Поделиться222021-04-15 01:19:11
О кошмарах Анне было известно многое, но преимущественно — в рамках теоретического знания, необходимого легиллименту. Кошмары рождались в фазе быстрого сна и, вполне закономерно, являлись ответом подсознания на стресс или негативные эмоции. У кошмаров было рациональное и суеверное объяснение, разное у волшебников и магглов, и даже у разных теоретиков ментальной магии — как все, что хотя бы раз испытывали все, кошмары с трудом поддавались единообразному и наукоподобному объяснению, которое устроило бы все научное сообщество.
Чужие кошмары Анне даже нравились. С ними было интересно работать, разматывая тоненькую нить, протянутую в чужой голове, от ужасного изображения, мешающего спать, до воспоминания, порой мешающего жить. Особенно любопытно было в этом смысле работать с аврорами и хит-визардами, которые едва оправились от столкновения с темной магией, — или с Пожирателями Смерти — потому что для них требовалось не только найти эту нить и потянуть за нее, но и превратить воспоминание, вызывающее страх, в воспоминание, ничем в их умах не отзывающееся, но сохраненное в качестве опыта.
Это было прекрасно как головоломка, которую Анна временами вынуждена была решать на работе, но не сейчас. Сейчас, когда Антонин, прижимая ее к себе, словно она была спасательным кругом, озвучивал в темноту свои застарелые, с давно вышедшим сроком годности, страхи, Анне было не по себе. Не по себе так, как будто она была свидетелем или даже соучастником преступления, совершенного над Долоховым.
— Ты же понимаешь, что это чушь, в которую он хотел, чтобы ты верил, Антон? — подперев ладонью голову, мягко спросила Анна. — Если бы ты не умел меня любить, я бы не лежала здесь сейчас с тобой. И у нас не было бы тогда, давно, наших хороших лет. Ты умеешь меня любить так, как никто не умеет, — что было чистейшей и даже не сентиментальной правдой, потому что любовь у них с Долоховым всегда была особенная, но они как-то умудрились все-таки понять, что ровно такая каждому из них и нужна. Анна помедлила, прежде чем отвечать на его второй, до странности трогательно поставленный вопрос, а потом улыбнулась.
— Мы нормально уживались. Он пытался в первое время говорить о тебе что-то, что повлияло бы на мое мнение, но я дала понять, что это меня не интересует. Я думаю, он только был рад, когда я пришла просить его о помощи с побегом. Рад, что я поняла, какой ты и захотела сбежать. Но он все равно ничего в этом не понял сам, — Анна решила не изобретать никакой полу-правды. Роман Долохов мог считать тогда, двадцать восемь лет назад, как угодно, но ни тогда, ни сейчас его мнение не имело определяющего значения.
Нужно было только как-то доказать это Антонину — представить ему вещественные доказательства того, что между ними было много хорошего. Достаточно для того, чтобы этих воспоминаний ей хватило на тридцать лет, и вот на это все — на чистой воды авантюру, которая могла их обоих с Долоховым свести в могилу в отнюдь не метафорическом смысле. Она могла предоставить ему доказательства. Могла достать из своей головы исключительно хорошие воспоминания. Могла показать ему свои ощущения, ожидания, надежды. Даже немного — свое разочарование, просто чтобы было понятно, какое сильное чувство стало его причиной. Сама Анна достаточно хорошо разобралась в себе той, в Анне Дмитриевне, которая шила для Дурмстранга платья, надеясь на семейное счастье, а потом вместо него мечтала хотя бы, чтобы ее и растущее в ней дитя коснулась рука отца и мужа.
Анна снова потянулась к губам Антонина, оставляя цепочку легких, невесомых поцелуев. Целовать Долохова было проще всего — это работало безотказно еще с первой брачной ночи. И, к тому же, просто ей нравилось.
— Я могу тебе доказать, что твой отец всегда насчет нас заблуждался, хочешь? — серьезно спросила она. — Посмотришь своими, то есть моими, глазами.
С ментальной магией у Антонина было пока настолько так себе, что такой опыт мог принести только пользу: у него не хватит ни сил, ни способностей, ни понимания как скользнуть за грань хорошего воспоминания в плохое. Почему бы этим не воспользоваться ради разнообразия для его пользы, а не во вред?
Поделиться232021-04-15 18:25:20
Когда никто и никогда в жизни не говорит тебе вещи в духе «Если бы ты не умел меня любить, я бы не…», то и поверить сразу очень сложно. Сложно не почувствовать какой-то подвох: а вдруг тебя пытаются успокоить, угомонить, как маленького ребенка? Анна никогда ему ничего подобного не говорила. Все было до одури в новинку, и Долохову не нравилось, что он не знает, как с этим работать. Верить? Подозревать? Просто слушать? Верить, конечно, очень хотелось. Но непривычно. Хотя вот она его снова целует и явно не для того, чтобы его успокоить, а просто для того, чтобы сообщить, что она все еще рядом. Все еще непривычно.
И ее предложение кажется одновременно странным и заманчивым. Конечно, Антонин понимал, что сможет увидеть лишь то, что она сама решит нужным ему показать, но тем не менее это была определенная степень доверия. Для него — колоссальная.
Но все было не так просто.
— Мне необязательно лезть к тебе в голову, чтобы вспомнить, что у нас с тобой были и хорошие моменты в браке, Аня, — он целует ее коротко в лоб, как ребенка. — Это немного сложнее. Отец мог сколько угодно говорить, что жалеет, что поженил нас, что я загублю твою жизнь и еще много других вещей касательно нашей семьи, но, как и ты, я не обращал на это внимания.
Если быть точнее, это просто не было проблемой. Младший Долохов сразу объяснил отцу, что дела его собственной семьи, то есть все, что касалось именно его и Анны, не подлежит обсуждению и уж тем более осуждению. Если уж его заставили сразу после школы взять на себя эту ответственность и возложить на свои плечи то, что он не просил, то будьте любезны, Роман Алексеевич, не лезть и позволить набить собственные шишки. Тогда казалось, что старшего Долохова такой подход устраивал. Возможно он надеялся как-то воздействовать на них через Анну, но, как она уже сказала, там тоже потерпел крах.
Но Антонину стало понятно, что же тогда пошло совсем не так в дальнейшем.
— Мне, конечно, приятно то, что ты говоришь о нас с тобой, хотя, звучит лестно, — продолжил он. — Но его попыткам вдолбить мне, что я неспособен тебя полюбить я не верил, особенно после того отпуска в Нормандии, — Антонин на несколько секунд останавливается, с улыбкой вспоминая, что тем летом было действительно хорошо и как-то для них по-новому. — Однако он точно знал, за какие ниточки надо меня постоянно дергать, чтобы выводить из равновесия.
Почему-то Роман Алексеевич задался целью каждый раз доказывать своему сыну, что он недостоин жить. По разным причинам, начинавшимся от его скверного характера и увлечением некромантией и заканчивавшимся желанием преподавать в Дурмстранге. «Словно ты не можешь найти себе занятие солиднее и достойнее волшебника твоего статуса и уровня подготовки!» — кричал старший Долохов, хоть и знал, что переубедить его твердолобого сына его не удастся. Потому что никогда не удавалось. Возможно, именно поэтому он так и бесился и поэтому искал все новые и новые способы сломать Антонина. Иногда буквально. Чаще буквально.
— Мой кошмар заключается не столько в моей вере в его слова, сколько в его собственной вере в них. И еще хуже то, что я всю жизнь пытался ему назло доказать, что он прав. Сам того не понимая, он запустил эту обратную психологию. Я бы очень хотел сказать, что в итоге он сделал меня мной, но ведь нет: я сделал это сам, наперекор ему.
Предположительно, Роман Алексеевич надеялся, что если говорить ребенку с детства, что такие монстры, как он, недостойны занять положенное им место в жизни, то ребенок будет стараться сделать все, чтобы измениться, исправиться, доказать обратное. Он только не учел факт собственного рвения. Он попросту перестарался. Антонин точно не помнит, когда это произошло, но однажды в его голове зародилась простая идея подтвердить слова отца.
И ведь именно благодаря старшему Долохову Антонин сделал себе зарок еще в юности не привязываться ни к кому. Потому что такие монстры, как он, этого недостойны. Наверное, если бы не неожиданная попытка Романа Алексеевича «с помощью брака сделать из него человека», то он бы и не привязался ни к кому и никогда.
Потом в его жизни появилась Аня, и в плане старшего Долохова словно бы появился просвет, однако он не переставал напоминать сыну, что он — та еще мразь, особенно когда понял, что с виду удачный брак все-таки обернулся ошибкой и крахом. И сложно сказать, а не доломал ли все Антонин, потому что в какой-то момент его отец просто не заткнулся.
А теперь его вновь преследует отец, который снова и снова поднимает наружу все плохие качества своего сына, напоминая ему, что жизни он недостоин, потому что такие люди, как он, вообще ничего не достойны.
— Если бы я его слушал, я бы давно выставил тебя за дверь и сделал все, чтобы мы никогда с тобой не увиделись. Но этот кошмар лично про меня, а не про нас. Я бы, конечно, не прочь пересмотреть парочку приятных воспоминаний из той же Нормандии, но мне сейчас достаточно и новых за последние две недели. Ну, за исключением момента, когда ты мне устроила паническую атаку, — он развернулся к Анне, попытался усмехнуться и снова поцеловал, чтобы хоть как-то разбавить этого и без того странный разговор.
Поделиться242021-04-15 20:58:10
Бедный, бедный Долохов.
Он снова говорил, говорил, говорил — то, что никогда в жизни не сказал бы ей в восемнадцать. И хорошо, потому что в восемнадцать она все равно бы этого не поняла. В восемнадцать в ее жизни были только ее собственные родители, любившие ее своеобразной, но в целом присущей их кругу любовью, и полагавшие, что родительская любовь в частности состоит в том, чтобы избавить единственное чадо от бремени жизнеобразующих решений; и старшие Долоховы, с которыми собственные отношения у Анны ладились постольку-поскольку — для них она была, во-первых, слишком своенравной, а во-вторых, слишком женой их сына.
Это потом в ее жизни появились Теглевы: интеллигентный, мягкий, но не бесхребетный Алексей Васильевич, который научил ее закрывать свой разум и пробираться в чужой; и его жена Ирина — решительная, даже отважная, из тех, про которых в Бостоне говорили heart of gold. С ними стало ясно, что родители, даже появившиеся вот так, никоим образом не родные, а просто принявшие в семью, могут быть и другими. От осознания того, что ей лишь чуть-чуть не повезло родиться не в собственной семье, а в этой, первые несколько месяцев Анне было не по себе — Теглевы не стали бы настаивать на браке, не лишили бы ее научной карьеры, не попытались бы внушить, что работа и академическое образование — вещи девушке из их круга совершенно не нужные, и что в браке, если уж ты в него вступаешь, нужно вежливо побаиваться и уважать мужа.
Следом появились Каунтеры: очаровательные магглы, которым сначала пришлось смириться с тем, что их сын не похож на них, а потом — с тем, что похож даже слишком. Они восемнадцать лет принимали Анну на субботние ужины с таким радушием, словно она и правда была их дочерью, и словно ровно о такой невестке они всегда и мечтали. Как будто любви к ней их сына с лихвой хватало и на них двоих. У таких, как Каунтеры, даром, что магглы, просто не мог вырасти никакой Антонин Долохов. Им бы в голову не пришло назвать свое дитя «монстром». Или — маленьким спрутом.
Знай Анна все это тридцать лет назад, она бы тоже не назвала Долохова монстром в тот роковой вечер. Она выбирала бы другие слова для выяснения отношений, а может, не выясняла бы их вовсе, потому что если бы Долохов умел говорить о таких вещах тогда, их жизнь была бы гораздо проще.
Нельзя все-таки не возвращаться в прошлое, да, Антон? Нельзя жить только настоящим и осторожно заглядывать в будущее, чтобы планировать хотя бы ближайшую неделю встреч. Прошлое всегда будет тянуться за нами нашими и чужими ошибками. Как же хорошо, что ты сдох, Роман Алексеевич.
Следом за этим в голову закрадывается совсем уж скользкая и ненужная мысль. Он ведь воспитывал их дочь. Дочь Антонина, если точнее. Анна не сомневалась, что свекор присвоил себе девчонку именно так — для него, как и для нее самой, это тоже была в первую очередь дочь его сына. Хотя, судя по словам Долохова, он вырастил в этот раз всего лишь заносчивую стерву. И с каких это пор ее вообще стал волновать этот ребенок?
Анна заставляет себя снова сосредоточиться на том, что говорит Антонин. Ей кажется важным ничего не упустить, потому что чем больше он говорит, тем меньше шансов, что она уйдет. Чем меньше шансов, что она уйдет, тем выше вероятность, что со всеми его ночными кошмарами ей придется жить. Простая логика, связывающая их, наверное, даже крепче любого чувства.
— Ты всегда умел причинять себе вред наперекор другим, это правда, — с коротким, невеселым смешком говорит Анна, просто чтобы Долохов не слушал тишину, и запускает пальцы в его все еще слишком на ее вкус короткие волосы, массируя затылок. — Мне жаль, что я раньше всего этого не понимала до конца. Когда ты уезжал в Дурмстранг, он все пытался мне внушить, что я должна тебя опасаться, хотя тогда у меня не было ни одного повода так думать самой. Он как будто… не умел толком ни к кому хорошо относиться, но ко мне пытался. Или хотел, чтобы я поверила, что он пытается. Мы с ним говорили иногда по вечерам, и тогда мне казалось важным дать ему и твоей матери понять, что ты — это не только то, что они о тебе придумали.
Оглядываясь назад, Анна, конечно, понимала, что это были напрасные попытки. Они разве что радовали свекровь тем, что в доме, наконец, появилась еще одна «заговорщица», способная любить ее сына наперекор ее мужу. Ебаный кентавр, да было ли хоть что-то в том долоховском доме, что делалось не главе семьи наперекор?
Анна озвучивает эту мысль тоже, но никакого особенного ответа не ждет, как не ждала она и согласия на ее предложение — смотреть в чужие воспоминания, особенно в воспоминания из такого далекого и надежно отодвинутого во времени прошлого тяжело. И даже не всегда нужно. Это она знает по собственному опыту. Может быть, пока достаточно того, что они просто вместе. Что она научилась его слушать, а он — говорить. Может быть, Долохов вообще не осознает, насколько он сейчас прав в том, что новые хорошие воспоминания для них обоих важнее старых.
— Антон, каждый твой кошмар — про нас. Вообще все, что мы делаем, — про нас. Если ты хочешь, чтобы мы были «нами».
Поделиться252021-04-15 23:35:40
Антонин Долохов за последние две недели сказал столько, сколько не наговорил за всю свою жизнь. Нельзя сказать, что от этого ему стало сильно легче, но тем не менее привело в порядок какое-то до этого расшатанное внутреннее эмоциональное, которое, как он думал, у него вовсе отсутствует.
Вот ты же сам говорил студентам: «Все проблемы из-за баб». И где ты теперь? Правильно: с бабой и проблемами. Располагайся поудобнее, Антонин.
Но прошлое за те две недели было выговорено настолько, что наконец можно было в него не возвращаться или хотя бы не углубляться до пагубных последствий. Возможно, им просто стоило не встречаться, когда им было по восемнадцать, потому что только сейчас наконец-то все происходило так, как ими же изначально задумывалось. Конечно, все еще имели место различные факторы в виде его основной «работы», ее мужа, непонимания, как можно распланировать это дальше, но больше в омут с головой можно было не прыгать.
— Не хотел бы — не болтал бы тут с тобой посреди ночи, — чуть суровее, чем планировал, ответил он Анне. — Спасибо тебе, — Антонин снова поцеловал ее и наконец провалился в сон.
На удивление, Долохов очень быстро к этому привык. К тому, что Аня теперь шатенка, а блондинкой, той на первый взгляд невинной русской француженкой, она как будто никогда и не была. К тому, что кофе после жизни в Штатах она пьет только черный и презрительно фыркает на его «разбавленную молоком байду», хотя когда-то сама пила только разбавленный и с сахаром. К тому, что она все еще была замужем за Каунтером и продолжала носить его кольцо, однако постепенно в его квартире стали появляться ее вещи. Это были какие-то мелкие детали, но с каждым ее приходом их становилось все больше. В общем, если авроры бы нагрянули в его квартиру, то скорей всего бы удивились, обнаружив в ней какие-то зачатки семейной жизни. Ребята, это все она, я сам охренел!
О встречах они договаривались с помощью зачарованных галлеонов. Такой артефакт просто спрятать, просто держать при себе, просто достать из кармана и повертеть в руке. Вместо привычных надписей с данными о дате выпуска и серии, появлялись дата и время встречи. О месте не договаривались: это была его квартира, было бы глупо встречаться где-то на людях, да и ни к чему, по крайней мере, пока. Конечно, иногда она его вытаскивала «прогуляться» куда-то ближе к маггловским кварталам, куда Антонин соглашаться выходить лишь ради того, чтобы и правда не встретить каких-то знакомых, причем ее. Конечно, в отместку он как-то предложил прогуляться в Оксфорде, но Анна эту шутку не оценила.
Прятать эту часть жизни удавалось относительно легко. Разве что однажды дочь, явно не выдержав, спросила, не появилась ли у него женщина: «Раньше ты не приносил с собой запах женских духов». К его радости, она сама свернула тот разговор, добавив, что это не то чтобы ее дело.
И все как будто бы было даже неплохо. У них не было этого в восемнадцать: их просто познакомили, просто поженили, просто сразу обозначили рамки, что теперь им придется всю жизнь прожить вместе. Никаких шансов на разгон. Теперь же они не были привязаны друг к другу ничем, кроме собственного желания быть вместе.
И как будто бы было даже неплохо.