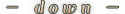Не то, чтобы Магдалина рассчитывала всерьез сделать Эйдану больно своими ударами. Вопросами боли физической он, по праву пола и силы в этом доме заведовал он. Она просто не могла сдерживаться. Её злость и ярость, которые она копила в себе годами за те же годы не стали тише, просто она научилась её глушить. Или, если не глушить, то уводить куда-то в сторону, держать чуть дальше от своих отношений с мужем, не столько из-за трепетного отношения к ним или, тем более, к нему, сколько чтобы не доставлять ему удовольствия своими вспышками.
Эйдан называл это “воспитанием”. Сама Магдалина - усталостью, но то, что всегда бурлило в ней, кипело в ней, не могло однажды не выплеснуться наружу.
Пощечина, которая должна была остановить это извержение, напомнила ей о “лучших” их годах с Эйданом. Обожгла не болью, а такой же, накопленной и долгой обидой, и, безусловно, заставила замереть, тревожно и затравленно.
Ей показалось, что все камины в особняке разом потухли и в комнате стало холодно. Кое-как, дрожжа от колотившей теперь изнутри злобы всем телом, она потянула на себя покрывало с кровати, заматываясь так, чтобы скрылись с глаз долой все то уязвленное, пережатое, покрасневшее, что уже скоро станет новыми синяками и пополнит бездонный колодец её личных поводов для ненависти.
Эйдан что-то продолжал говорить.
Смешно, поминал их второго сына.
Еще смешнее - проявлял заботу с этой водой, с этим зельем, будто чинил поломанную игрушку. Маг приняла стакан, поднесла к лицу. От самой кромки поднимался запах успокаивающих трав, а лучше бы яда. Пить она не стала, только хмыкнула в ответ, поднимая на мужа полные, как ей хотелось верить, осуждения глаза.
У тебя слизняк вместо мозга, Эйдан Эйвери. Так ни черта и не понял.
- Наследство? Ты серьезно считаешь, что дело только в наследстве? Me casé con un idiota!
Она поджала к себе ближе ноги, постаралась укутать и их, забраться в покрывало, как в кокон или в саван - переродиться в этом доме ей, видимо, было не дано, дали бы сдохнуть. Впрочем, большое милосердие от хозяина особняка, - пока еще всем остальным в нем разрешалось говорить. Хотя, Магдалину замолчать было и не заставить. Вряд ли он мог об этом забыть.
И она говорила, уже суше и строже, но все равно надеясь, что кислота просочится и прожжет хоть что-то в её муже.
- Быть Эйвери - это привилегия. Я отдала ради нее себя, свою жизнь и, если ты помнишь, немалое приданое. Наш сын родился и рос с нами под одной крышей двадцать лет, воспитывался нами, чтобы быть достойным носить эту фамилию. Мы знаем тебя, мы знаем, кто ты, мы знаем друг друга, а ты хочешь опозорить священное имя, подарив его девчонке, с которой знаком от силы пару месяцев. К тому же, девчонке-аврору, в надежде на надежность Непреложного обета, по всей видимости.
Стакан затрясся в ладони. Несколько капель выплеснулись наружу, на кровать, но лучше они, чем слезы. Слез вся эта фантасмагория не стоила.
- Нет, Эйдан. Это ты не можешь смириться с тем, что я стала самостоятельнее, что и я могу тебе мстить, и мне назло тащишь в дом эту шваль, которая дорога тебе только тем, что твой член однажды встал на её мать, чему та оказалась несказанно рада. Сентиментальный болван.
Она кинула стакан в него. Слабо, без желания разбить, скорее, чтобы обозначить, что пить не будет. Маленький протест, но нужный, чтобы собрать в себе все то озлобленное и сумасшедшее, что и самой Магдалине причиняло немалую боль. Она опустила глаза, волосы упали на лицо, пришлось отодвигать их кое-как путающимися пальцами, чтобы поднять лицо. Эйдану она всегда смотрела только в лицо, когда говорила с ним серьезно.
- Сок пижмы. Экстракт цветов целомудренника. Горчичный порошок. Я знаю не только как родить, но и как скинуть. Хочешь чтобы в этом мире появился еще один Эйвери? Хорошо, лю-би-мый. Выбирай, кто именно это будет.
О том, что в случае неправильного его выбора, она все равно с ним не смирится, Магдалина пока решила промолчать.