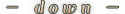[nick]Giovanni Caprotti[/nick][status]art is never finished[/status][icon]https://funkyimg.com/i/38XhY.jpg[/icon][info]<div class="lzname"> <a href="ссылка на анкету">Джованни Капротти </a> </div> <div class="lztit"><center> 37 лет, N</center></div> <div class="lzinfo">полукровный <br>мастер зачарованных картин</div> </li>[/info]
Глаз меньше ошибается, чем разум, ибо там, где разум сковывают условности, положенные из вне, глаз видит лишь красоту и глубинное, природное свойство тел, поверхностей, фигур и цветов.
Там, где разум рядит мир в одежды, неустанно усложняя образ географическими границами, социальными статусами, разницей в возрасте, глаз обнажает истину и любуется ею.
Там, где разум стремится по простоте своей все пояснить и всему дать названия, взгляд, ведя руку мастера, порождает живопись – единственную подражательницу и возлюбленную дочь природы, неустанно воспевающую все ее видимые творения.
Джованни улыбнулся и покачал головой, не сводя с Магдалины глаз. Он любовался тем, что привлекало его куда больше порочного или, напротив, стыдливого совершенства юной, первозданной красоты, - красотой уверенной, умеющей поведать свою историю. Перед всеми прочими, могущими видеть Магдалину такой, отринувшей все покровы, у Джованни было единственное преимущество – он не нуждался ни в приукрашивании, ни в кокетстве, ни в притворном смущении, ни в преувеличенной дерзости.
- Я бы не пожалел, что взялся за эту работу, даже откажись вы от моей идеи позировать обнаженной, - мягко сказал он. – Вы прекрасны, но не потому, что ваше тело совершенно, хотя и это тоже. Вы прекрасны, потому что вы похожи на нее.
Джованни на миг обернулся, взглядом указывая на картину, ожидавшую у него за спиной свою обладательницу и хозяйку, и протянул Магдалине руку, приглашая ее последовать за ним. Едва ощутимо сжимая ее ладонь, он повел ее, не торопясь и не сводя с нее взгляда, запоминая, как ласкает ее лицо свет свечей, к картине. Остановился на расстоянии вытянутой руки и, отпустив ее руку, встал у Магдалины за спиной.
- Вы похожи на нее, - повторил он и коснулся волшебной палочкой центра картины. Магия легла поверх тонкой золотистой лессировкой, подсвечивая то, что уже и без того было живым. – Полдень, вибрирующий и жаркий, с глубокими тенями и ярким, обжигающим светом, - повинуясь его воле, день на картине медленно тускнел, удлинялись тени, менялись цвета, стихал ветерок, - теплые сумерки – обманчиво мягкое предчувствие ночной прохлады… Глубокая ночь, с небом высоким и далеким, с расцветающими холодными звездами. Вы упрямый, вечный мавританский узор, спокойствие матадора, ярость его противника, жар полыхающих костров и неподвижное величие чистокровия. Вы все это, - Джованни убрал палочку, и последняя лессировка, его завершающий штрих, его подарок прекрасной донне, спала, вернув на картину полдень. – И куда больше, Магдалина. О работе с вами невозможно пожалеть. Это удовольствие и честь – порождает красоту лишь тот, кто желает и умеет ее видеть…
С этими словами он отступил на полшага от Магдалины и длинным, быстрым и плавным росчерком волшебной палочки наметил в воздухе ее силуэт. Он зажегся между ними неярким золотистым свечением, и, улыбнувшись Магдалине, Джованни взмахом палочки призвал магическую сангину. Он размечал ее облик в воздухе торопливо, пытаясь подметить мельчайшие изменения, оставить на каркасе будущей нарисованной Магдалины как можно больше точек, чтобы, ожив, она в самом деле стала живой – подвижной и мягкой, как ее хозяйка.
- Как старые мастера не пишет уже никто, - ненадолго отвлекшись, наконец ответил Джованни. – Но никто не запрещает пытаться, как любил повторять мой предок, служивший в мастерской одного очень известного флорентийца.
Он был почти доволен мягкостью, с которой складывались в воздухе линии ее плеч, изгиб талии, странно трогательная элегантность бедер женщины, уже подарившей новую жизнь. Это была еще не Магдалина и даже не настоящий набросок – просто линии магической сангины, внутри которых он заключал свое воображение, нежную признательность и восхищение.
- Мне всегда жаль, что большая часть этого наброска в конце концов исчезнет, - поделился Джованни с Магдалиной. – Она будет скрыта за краской и платьем. Современные художники считают, что это означает, что то, что невидимо глазу, можно и не изображать. Достаточно просто представлять, как лягут на женское тело складки ткани. Ужасно, неправда ли? Лишать себя, женщину и портрет вот этой первозданной, и без того мало кому открытой красоты.