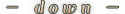Аптека всегда успокаивала Машу продуманностью и постоянством. В отличие от неповоротливого, утонувшего во французской бюрократии министерства магии, в котором самыми постоянными величинами были не способствующие душевному спокойствию глупость и узколобость, аптека Малпеппера была умиротворяюще предсказуемым, не один век назад вписанным в быт Лютного и Косого переулков, явлением.
Мир вокруг нее менялся неуклонно и в последнее время даже тревожно, а ритуалы оставались одними и теми же день за днем для каждого управляющего: подъем в шесть тридцать, до восьми есть время писать статью или разбираться с домашними делами, в восемь нужно спуститься в аптеку, чтобы обновить ассортимент и подготовить заказы, а ровно в десять — снять защитные чары, чтобы аптека открыла двери для посетителей.
С десяти утра до часу дня в аптеке в основном незнакомцы: большую часть из этих людей Маша видит в первый и последний раз, поэтому не особенно запоминает их потрепанные шляпы, дешевые мантии, остроумные и не очень замечания, встревоженные взгляды, с которыми они, полушепотом, описывают симптомы своих болей, расстройств тела и души, деликатных любовных увечий и прочего, прочего, прочего, волей-неволей всегда относящего Машу к министерскому прошлому.
Не сравнивать одноразовых посетителей аптеки с одноразовыми преступниками-отравителями из министерства просто невозможно: и тех, и других приносило в ее жизнь ненадолго, волной прилива; и те, и другие, хоть и появлялись ненадолго, приносили в Машину жизнь кусочки своей — крошечные фрагменты огромной, необъятной мозаики бытия. Разница между ними состояла лишь в том, что в министерстве она работала с теми, кто определенно уже совершил преступление, а в аптеке Малпеппера просто не имела об уголовном альтер эго своих посетителей достаточно информации.
«Чем аптека лучше? Не понимаю», — сказал ей Эрве перед ее отъездом и добавил, как будто в шутку, заранее виновато приподнимая уголки губ, — «у русских наверняка есть об этом какая-нибудь la proverbe*». Естественно, есть. Шило на мыло. Когда вместо того, чтобы пуститься, как обычно, в пространные объяснения, что именно это значит, Маша просто пожала плечами, правильность принятого ею решения стала особенно очевидна. Аптека, может, и не казалась ей тогда значительно лучше министерства, выигрывала у него хотя бы в том, что разом, одной решительной чертой, отсекала все, что Машу не устраивало в парижской жизни, включая самого Эрве.
Неоспоримым достоинством аптечных незнакомцев было то, что этот ручеек неизменно, день за днем, иссякал самое позднее к половине второго. Никто не хотел задерживаться в Лютном переулке надолго, даже в самом его начале, в тени спасительного, грозно возвышающегося над всеобщей суетой Гринготтса. К двум Маша всегда на полчаса-час оставалась в аптеке совершенно одна. В это время обычно являлся Грипхук, который, для порядка, минут семь качал права, а потом забирал свой заказ и уходил, обещая Маше под настроение то золотые горы, то полный арест счетов; или Несбит, которому в тихие дни становилось скучно в своей «Дистальной фаланге». Чаще всего, впрочем, к Маше не заходил никто, и она могла спокойно заниматься своими делами, попутно с помощью магии приводя зал в первозданное состояние.
Второй акт безукоризненно отрепетированного действа начинался после трех, когда контингент Лютного переулка неуловимо менялся. Мантии посетителей с каждым часом становились все более потертыми и изношенными, а запросы — все более экстравагантными. Случайных людей здесь уже не было — случайных Лютный к трем часам уже прожевал и выплюнул куда-то к мистеру Фортескью. Самым приличным посетителем в это время мог оказаться какой-нибудь мистер Борджин или владелец книжной лавки напротив Гринготтса.
С постоянными клиентами — какими бы они ни были — дела было вести несколько более утомительно, но и более приятно тоже. К примеру, временами к ней заглядывала препротивная старушка, которая исправно скупала половину средств для улучшения пищеварения, но только после того, как Маша устраивала громкую читку составов каждого зелья. Читать нужно было в самом деле очень громко, четко, склонившись к уху покупательницы, и желательно так, чтобы черемша не стала чечевицей. Эти чтения были бы терпимыми, если бы они не совпадали порой с визитами других своеобразных клиентов Малпеппера. Маша вообще вывела закономерность: чем лучше клиенты помнили Малпеппера молодым и бодрым провизором, тем более невыносимыми они были по отдельности, и тем более сумасшедшим становился день, когда они являлись вместе.
День, когда в аптеке неожиданно снова появился Костелецкий, принеся в сладковатый лекарственный запах торгового зала терпкие нотки своего табака, был одним из дней, когда в мироздании образовалась прореха, и откуда-то из преисподней в аптеку высыпались сразу все персонажи зверинца. Даже любвеобильный Болтон, который воровал у нее зелье с многообещающим названием «Булава любви» перед каждым свиданием с дамой сердца. Болтон обычно так торопился и так быстро хватал с привычного места пузырек, что даже не всегда замечал, что вместо булавы любви уносил домой слабительное. Судя по тому, что после этого он всегда являлся с истерикой, он вообще не имел привычки следить за тем, что тянул в рот перед ночью страсти и ничуть не конфузился своего воровства.
— Большие планы на вечер, мистер Болтон? — невинно уточнила Маша, отправив, наконец, глуховатую старуху к стойке с кассовым аппаратом. Болтон фыркнул и вздернул подбородок, что несколько противоречило его обыкновенным пугливым набегам на аптеку, но в целом укладывалось в картину мира, в которой зелья, ведущие вечную войну с импотенцией, предлагались в аптеках бесплатно.
— Мисс Долохоффффф, — тем временем множественные буквы «ф» вылетели изо рта у старухи так, словно она пыталась в Машу плюнуть, но из-за разницы в росте не могла дотянуться до лица. — Деточка, я вам благодарна за крэма и зэлья. Загляну на будущей неделе.
— Буду ждать, — вежливо улыбнулась Маша. Ей до сих пор было невдомек, почему англичане все пытались плюнуть в нее ее же фамилией, в которой гласные и согласные чередовались исключительно удобно для произношения, но спросить было особенно не у кого, а поправлять, в общем и целом, бесполезно. Невольно — раз уж он все равно был тут — Маша заинтересовалась, сталкивался ли с чем-то подобным Костелецкий: у него вообще в фамилии были звуки, для британцев не существующие в природе.
Костелецкий вообще интересовал Машу больше, чем она готова была признать. Во-первых, потому что она ждала ответа из клуба целую неделю. Во-вторых, потому что была уверена, что ответ от Костелецкого, если таковой вообще будет, придет вместе с Крэйтоном. В-третьих, потому что в глубине души она вообще была глубоко убеждена, что ответа от Костелецкого не будет. Хозяин «Короны гоблина» был похож на тех мужчин, которые никогда не прощали перепалок с женщинами ни себе, ни женщинам. Тем более таких перепалок, в которых правы были вроде как они, но вроде как это было и не очень важно для результата.
Однако Костелецкий явился сам, в гордом одиночестве, еще и нетерпеливо терпеливо ждал закрытия аптеки, тенью перемещаясь по аптеке. Маша краем глаза посматривала на него, предоставленного самому себе, и невольно снова задумалась о том, с чего она вообще на Костелецкого взъелась. Вполне вероятно, что она сама на его месте — да и на своем собственном тоже — прошла бы мимо попавшей в беду женщины. Это же Лютный переулок. Никто никому ничего не должен. Бед много, женщин — еще больше. А жизнь у каждого одна.
Рабочий день закончился опустошающее неожиданно — его унес в кармане, как слабительное зелье, от пробки которого пахло вариацией иланг-иланга, маскирующей запах вытяжки из железы дромарога, Болтон.
— Перенервничал, — взглядом указывая на Болтона, которого все еще было видно в окне, сообщила Маша Костелецкому. — Опять унес слабительное.
Этим ненужным Костелецкому рассказом и вежливым «да, благодарю» в ответ на его приветствие Маша заняла паузу, необходимую ей для того, чтобы активировать защитные чары: она закрывает дверь на щеколду, и механизмы потайных замков щелкают, надежно закрывая аптеку, а последним загораются золотистые защитные экраны у витрин.
Костелецкий переходит к делу сразу же, без обиняков и развешивания неуместных, но стратегически интригующих пауз — в лучших традициях своего колдомедика, который тоже не любил лишних словесных красот в деловом общении. Удивительно, откуда у них в таком случае взялась та идея с дурацкой корзиной с фруктами.
— Я его понимаю, — кивает Маша. Самое главное, конечно, что Костелецкий в деле. В ней даже поднимает голову притихший было в ожидании ответа азарт зельевара. — Но это, увы, замкнутый круг — без вашей помощи я не могу предоставить более убедительные доказательства того, что зелье работает. И не могу провести никакой «клинической апробации», — это она тоном берет в кавычки, осознавая абсурдность клинической апробации наверняка запрещенного зелья, — потому что сейчас я обхожусь только собственным организмом и собственными переломами. Мягко говоря, это неполная картина.
Все эти слова нужны, конечно, для того, чтобы успокоить Крэйтона. Но еще — для того, чтобы понять, стоит ли показывать Костелецкому лабораторию. Интерес к ней, с одной стороны, вполне здравый. С другой, удивительный и даже немного наивный — маловероятно, что Костелецкий разбирается в зельях и устройстве лабораторий. Разве что Крэйтон предварительно снабдил его инструкциями, на что он должен смотреть. Или она просто недооценивает Костелецкого. То, что Маша не может понять до конца, что именно движет гостем, раздражающе зудит внутри, но Костелецкий вдруг лезет в карман и дает ей еще время подумать. И — неожиданно — дарит подарок. Ну или как там это называется. Вроде… извинение? В футляре, на первый взгляд довольно дорогом, лежит кулон с луной и цветком из червленого серебра, вызывающего ассоциации с чем-то а la russe. Раз уж некоторое время она нужна ему живой.
Маша поднимает взгляд на Костелецкого и протягивает руку к подарку, как будто бы чтобы повернуть футляр и получше рассмотреть кулон, но на самом деле только для того, чтобы задержать ладонь над футляром на долю секунды дольше необходимого. Яркий всполох гранатов в бабушкином кольце утихает практически тут же — значит, зла ей Костелецкий не желает. Занятно. Забавно.
— Благодарю. Непременно надену на следующее дефиле, — серьезно кивает Маша, благодарность — настоящая, а насмешки над самой собой в этом слове «дефиле» столько же, если не больше, сколько странного, необъяснимого желания напомнить Костелецкому его меткое определение.
— Пойдемте, — продолжает она практически без паузы, приняв окончательное решение. — Я покажу вам лабораторию.
Лаборатория, в конце концов, — это, на первый взгляд, всего лишь одно смежное с аптекой помещение. Она, конечно, рискует, потому что за этим помещением есть еще одно, но совместные дела требуют определенного уровня доверия. А определенный уровень доверия — взаимных уступок.
Отредактировано Maria Dolohova (2021-01-22 08:39:12)