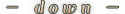Дни не сменялись один за другим – они шли сплошной непрерывной чередой, единым неделимым потоком, в котором ощущение времени терялось, а каждая секунда превращалась в вечность, и это была вечность пустоты, холода и безнадёжного ожидания смерти. За эти годы Эйдан в полной мере оценил злую шутку Фемиды: сейчас, по прошествии каких-нибудь трёх лет, он предпочёл бы поцелуй дементора этой мучительной полужизни в четырёх стенах, без солнечного света, без воздуха, без нормальной еды и возможности хотя бы на минуту ощутить внутри прежнее тепло, которое напомнило бы ему, что он всё ещё человек. Да, отсутствие свободы и общество дементоров научили Эйдана ценить такие простые вещи, о которых он никогда не задумывался раньше.
Сон тоже не приносил облегчения. Он больше походил на бесплодные попытки утонуть: всякий раз, когда «вода» начинала смыкаться у него над головой, Эйдан приходил в сознание, судорожно хватая ртом отравленный унынием воздух. Максимум, на что он мог рассчитывать – это рваные минуты дремоты, туманное состояние на грани между сном и пробуждением, не дававшее отдыха ни телу, ни рассудку.
С каждым днём – или, может быть, с каждой минутой, теперь он не мог отличить одно от другого – в нём крепло ощущение, что он превращается в мутную тень, неясный призрак собственного существования. Эйдану нечего было ждать, кроме смерти, не на что надеяться, не для чего жить. Единственным, благодаря чему он вообще продержался так долго, был Эрлинг – и немного, может быть, их фамильное упрямство. Но упрямства в себе он уже давно не находил, а мысли о сыне оставались.
Эйдан отчаянно жаждал увидеть Эрлинга ещё хотя бы раз – и с завидным упорством отказывался приходить к нему на встречи, хотя возможности посещения им, по какой-то непонятной для Эйвери-старшего причине, всё же предоставляли. Сын приходил регулярно, Эйдану об этом сообщали. Он игнорировал эти сообщения. Не хотел, чтобы Эрлинг видел его таким. Не хотел остаться в его памяти осунувшимся узником Азкабана. Не хотел оставаться в его памяти в принципе – хотел только помнить сам.
И он помнил. Всё, что сделал и чего не сделал. Эйвери не раскаивался ни в чём, кроме одного, но оно было огромным и необъятным, как эти стены, отрезавшие его от внешнего мира. Он считал себя бесконечно виноватым перед сыном. Тот факт, что на суде он взял всё на себя, заявив, что втянул во всё Эрлинга против его воли, под Империусом, и нарочно путал его сознание, чтобы сын не мог об этом вспомнить, ничего не менял. Искупления не было, как не было пути назад.
…Когда ему дали команду «на выход», Эйдан не понял, что произошло. Ему никто ничего не объяснял. Он ни о чём не спрашивал. Делая шаг из камеры, Эйвери готовил себя к единственному возможному исходу. По его глубокому убеждению, выпустить его не могли, никогда и ни при каких обстоятельствах. Единственный выход вёл в один конец – к поцелую дементора. Эта мысль внушала одновременно ужас и облегчение.
Тюремный коридор показался ему бесконечно длинным… и внезапно привёл Эйдана совсем не туда, когда он собирался. В это невозможно было поверить, однако его вывели из Азкабана – вот так запросто, как будто это было в порядке вещей – а затем и вовсе доставили в Лондон. Ему по-прежнему ничего не объясняли. Эйвери по-прежнему не задавал вопросов. Боялся проснуться.
Только в министерских камерах предварительного заключения ему, наконец, объяснили, в чём дело. Эйдан слушал что-то про магический Интерпол и про сделку, о согласии на которую его, почему-то, никто не спросил. Схема была ясной, и всё-таки он ничего не понимал. Но ему дали возможность принять душ, переодеться и даже побриться, и этим нужно было пользоваться. А ещё: он больше не чувствовал рядом навязчивого присутствия дементоров, и впервые за долгое время где-то глубоко внутри шевельнулась искра надежды. Сон не заканчивался.
Приведя себя в порядок, насколько сумел, Эйдан остановился перед зеркалом. Отросшие волосы он кое-как обстриг, но они всё равно оставались непривычно длинными для его прошлого я. Глаза впали и покраснели, щёки втянулись, губы приобрели какой-то мертвенно синеватый оттенок, а лицо стало бледным, как восковая маска. Он сам не узнал бы себя, если бы увидел это лицо тогда, три года назад. Эйдан намочил ладони и старательно пригладил непослушные волосы. Что бы ни ждало его впереди, это было лучше того, что он оставлял за собой. И даже одежда, которую ему выдали, была нормальной… его одеждой, пусть теперь она и повисла на нём чересчур свободно.
Ему сказали, что его куратор ждёт его. Имени Эйвери не спросил, это не имело значения. Он был готов… но не к тому, что увидел.
Ещё один коридор, ещё одна дверь, ещё одна комната. Четыре стены сжимающегося пространства. Эйдан перешагнул через порог и остановился. В первую секунду свет ламп ослепил его, и он не сразу узнал молодого мужчину, который его ожидал. Но мужчина поднялся ему навстречу, и Эйдан увидел, как его губы сложились в поначалу неуверенную, но такую знакомую улыбку, а глаза засияли, несмотря на затаённую тревогу. Это было уже слишком много для него. Эйдан замер. Он просто стоял и смотрел на сына, кажется, целую вечность, не в силах выдавить из себя ни единого слова. Но на одно силы всё же нашлись.
– Эрлинг…
Собственный голос прозвучал будто со стороны, хрипло и незнакомо. Эрлинг. Три года он прикрывался этим именем, как щитом. Три года цеплялся через него за реальность, не позволяя себе сойти с ума. Три года жил исключительно мыслями о нём.
Эйдан почувствовал, как что-то горячее и влажное скользнуло вниз по его щеке, но не шелохнулся, продолжая стоять всё так же прямо и неотрывно смотреть на сына. Слёзы радости впервые в жизни текли у него из глаз – и впервые в жизни он не стыдился своих чувств.
– Здравствуй, сын.